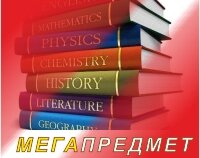 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.
| Э. МакКормак. Когнитивная теория метафоры. 19 страница
Обобщим сказанное. Предположим, что поэт говорит My sweetheart is my Schopenhauer 'Моя возлюбленная — это мой Шопенгауэр'. В рамках теории сравнения объектов мы должны задаться вопросом о том, что общего между возлюбленной поэта и Шопенгауэром. Однако, как можем мы ответить на такой вопрос, не зная ничего об этой женщине, если сама метафора не содержит указаний на какие-либо ее качества? Корректный вопрос состоит в том, какие из возможных значений имени 'Шопенгауэр' применимы к возлюбленной поэта и не вступают в то же время в противоречие с контекстом.
* Ср. в переводе Ю. Корнеева: «...на их кинжалах Алел наряд из высыхавшей крови». — Прим. перев.
II
Мои общие возражения против теории сравнения объектов, как мне кажется, в равной мере применимы к очень интересному варианту этой теории, предложенному П. Хенле — теории иконической сигнификации7. Хенле, как представляется, предпринимает попытку объединить те две теории, которые были названы выше. Он разрабатывает вариант теории словесных оппозиций, однако описывает его в терминах, связанных с реакцией читателя — его «удивлением» перед явлением «столкновения значений»8. Мне кажется более предпочтительным выдвижение теории, которая касается не эффекта, вызываемого метафорой, а языковой структуры, производящей такой эффект, то есть касается «столкновения значений» самого по себе. Об этом Хенле говорит мало, он не объясняет, как данная теория соотносится с его другой, главной, теорией; не объясняет он и того, в чем причина «удивления» и «столкновения значений», если его главная теория правильна. Хенле утверждает, что «в метафоре содержится иконический элемент», и предлагает анализировать метафорические определения с помощью понятия иконического знака. Разбирая пример из Китса hateful thoughs enwrap my soul in gloom букв, 'злобные мысли окутывают мою душу мрачностью', он говорит о существовании двух отношений; во-первых, слово enwrap 'окутывать' обозначает определенное действие 'окутывание покровом' (envelopment in a cloak). Во-вторых, это действие становится иконическим знаком мрачности9. «В метафоре некоторые термы символизируют иконизирующее, тогда как другие — иконизируемое»10. Можно спросить для начала, каким образом в это объяснение попал покров (cloak). Как представляется, иконическая теория импортирует некий посторонний объект (типа пажа у Рэнсома), и поэтому она столь же уязвима, как и другие теории «импорта». Хенле даже склоняется к доктрине «приемлемости», которая, по моему мнению, является камнем преткновения для теорий сравнения объектов. Так, он пишет: «было бы неудачным говорить о злобных мыслях, заманивающих (entrapping) душу в мрачность», поскольку «все ловушки (traps) снабжены острыми зубцами и не сочетаются с мрачностью»11. Возможно, мне не следовало бы так акцентировать это замечание, однако я должен сказать, что его обобщение приводит к совершенно удивительному принципу. По моему мнению, вопрос о том, является ли окутывание лучшим иконическим знаком для мрачности, чем ловушка, относится к таким, на которые нельзя ответить, — к счастью, отвечать на них и не следует. Если бы лирический герой поэмы был заманен в ловушку мрачности, а не окутан мрачностью, то он просто был бы несколько иначе охарактеризован, его чувства были бы несколько другими, однако
говорить о том, лучше или хуже была бы в этом случае поэма, не приходится, поскольку это зависит от целого ряда других факторов. Хенле цитирует один из примеров Аристотеля, относящийся к способам инвертирования «пропорциональной аналогии»; разные результаты получаются, если сказать, что щит является фиалом Ареса, или же, что «фиал есть щит Диониса»12. «Подобная инверсия возможна, несомненно, только вследствие иконического характера метафоры», — пишет Хенле13. Возможно, это следует непосредственно из самой теории сравнения объектов, поскольку, если А можно сравнить с В, то почему не сравнить В с А? Ведь утверждение подобия эквивалентно своему конверсиву. Однако, если такое следствие действительно имеет место, то оно наносит по теории сокрушительный удар. Хенле осознает здесь наличие некоторых трудностей и потому отмечает, что хотя метафора всегда обратима, но иногда подобное обращение «меняет характер восприятия». Позволю себе не согласиться с последним утверждением: разница между высказываниями this man is a lion 'этот человек — лев' и this lion is a man 'этот лев — человек'14 состоит в том, что разные метафорические модификаторы определяют разные субъекты. В теории языковых оппозиций ниоткуда не следует, что если А — метафорическое В, то В — метафорическое А. В этом и состоит различие между метафорой и аристотелевой пропорциональной аналогией, или рациональным сравнением — даже если сам Аристотель и не считал это различие столь уж существенным. Несомненно, что здесь следствие теории словесных оппозиций является справедливым, в то время как иконическая теория, коль скоро из нее следует, что, называя людей львами, а львов — людьми, мы в обоих случаях определяем одни и те же свойства, обнаруживает свою несостоятельность. Теория иконической сигнификации, как мне кажется, заслужила и еще один справедливый упрек. То, что теория метафоры может анализировать метафору тем же способом, что и оксюморон, можно было бы считать достоинством этой теории. Это делает теорию более экономной, а также отражает очевидное глубинное сходство между метафорой и оксюмороном. Однако анализ оксюморона как представления оказывается непосильным для иконической теории. При толковании примеров типа mute cry 'немой крик' мы должны были бы сказать, что немой человек становится иконическим знаком чего-то, что не является немым: беззвучие становится знаком звука, — трактовка не слишком убедительная. Было бы правильнее считать, что в случае оксюморона мы имеем дело с архетипом, наиболее явной и концентрированной формой словесной оппозиции.
III
Если отвлечься от объектов, к которым отсылает метафора, и рассматривать сами значения слов, то следует искать, так ска-
зать, метафоричность метафоры в своего рода конфликте, который отсутствует при буквальном использовании слов. Одно из направлений исследования этого конфликта я, как мне кажется, сразу же могу отвергнуть как тупиковое. Речь идет о таком направлении, при котором сравниваются смысл выражения и та идея, которую имел в виду говорящий (или пишущий). Тогда метафорически А назвать В — это значит сказать, что А — это В, не имея этого в виду (то есть метафора здесь — это форма иронии15). Здесь производится неявная апелляция к намерению говорящего, и соответствующая теория страдает всеми недостатками, проистекающими из использования понятия намерения. Неверно, что мы приходим к выводу о метафорическом использовании слова в стихотворении потому, что мы знаем, о чем думал поэт; скорее наоборот, мы узнаем, о чем он думал, поскольку видим, что слово употреблено метафорически. Ключ к пониманию поэзии должен быть сокрыт в самой поэзии, в противном случае мы почти никогда ничего не могли бы в ней понять. Взгляды такого рода прослеживаются и в блестящем очерке метафоры в недавней книге Изабель Хангерленд16. По ее словам, в метафоре «должно присутствовать некое устанавливаемое отклонение от обычного употребления или его нарушение, иначе говоря, это нарушение должно быть намеренным». По объяснению Хангерленд, второе из предложений было написано ею только по небрежности; я привожу эту цитату, чтобы подчеркнуть, что два данных предложения очевидным образом далеки от синонимичности, поскольку вполне возможны случайные или ненамеренные метафоры17. Оппозиция, которая сообщает выражению метафоричность, содержится в самой его семантической структуре. Хотя я ужеописал некоторые черты теории словесных оппозиций в другом месте18, я все же кратко повторю их сейчас. Согласно предлагаемой концепции, возможность метафорического поведения языковой единицы, то есть возможность осуществлять в живой речи определенного рода языковую игру, зависит от ощущаемого различия между двумя наборами свойств интенсионала, или сигнификата, слова: первый включает те свойства, которые (по меньшей мере, в некоторых контекстах) составляют необходимые условия для правильного употребления данного слова в данном значении (это определяющие свойства, или свойства десигната, то есть центральное значение слова в контексте определенного рода); второй же включает те свойства, которые принадлежат маргинальному значению слова, или его коннотации (если использовать этот термин в том значении, которое принято в литературоведении), то есть те свойства, которые говорящий может (в соответствующем контексте) приписать объекту, используя данное слово, причем говорящий не обязан следовать правилу, согласно которому он не может применять данное слово к определенному объекту, если этот объект не обладает этим свойством.
Я писал и о том, что когда слово комбинируется с другим таким образом, что между центральными значениями этого и других слов возникает логическая оппозиция, то происходит сдвиг от центрального значения рассматриваемого слова к его маргинальному значению, и этот сдвиг показывает, что слово употреблено метафорически. Это единственный способ, которым можно трактовать данное явление, не впадая в абсурд. Термин «логическая оппозиция» здесь включает как прямую несовместимость семантических свойств, так и менее прямую несовместимость между пресуппозициями слова; ср. пример spiteful sun, где наше представление о солнце исключает его сознательное поведение, предполагаемое при злобности. Именно логическая оппозиция позволяет модификатору создавать метафорическое сплетение. Следовательно, принадлежность к метафоре определяется наличием двух составляющих: семантического различия между двумя уровнями значения и логической оппозиции на одном из уровней. Тем самым при использовании слова spiteful в метафорическом контексте не встает вопроса о том, что обычно оно обозначает злобных людей, упоминание о которых, в свою очередь, должно быть введено в интерпретацию для проведения сравнения; в данном контексте функционирование слова spiteful связано только с его коннотативными характеристиками. Таков общий вид простой теории словесных оппозиций, которую я отстаиваю и которая, как представляется, отражает суть метафоры. Иными словами, я считаю явление, описываемое этой теорией, то есть сдвиг от десигнации к коннотации, действительно существующим. Однако в то же время я опасаюсь, что предложенное описание не является достаточным. По крайней мере в некоторых метафорах происходят еще некоторые очень важные процессы19. Для пояснения мне придется задать (или сформулировать более четко, чем до сих пор) два противопоставления. Коннотации слова, обозначающие объекты определенного рода, черпаются из общего множества акцидентальных свойств, присущих объектам или приписанных им. Назовем это множество акцидентальных свойств потенциальным диапазоном коннотаций слова. Однако в некоторый момент истории существования слова активизируются, возможно, не все эти свойства. Так, размышляя о множестве свойств, присущих деревьям (хотя, вероятно, и не всем), можно выделить такие, как облиственность, тенистость, ветвистость, высота, стройность, наличие коры, способность гнуться при ветре, сила и т. п. Некоторые из этих свойств, например, облиственность, тенистость, высота, очевидным образом относятся к признанным коннотациям слова tree 'дерево' и участвуют во многих известных метафорах. Их можно назвать основными коннотациями. Другие свойства, возможно, такие, как гибкость или наличие коры, как представляется, к главным коннотациям не отно-
сятся, хотя они и могут быть достаточно характерными для деревьев, чтобы входить в потенциальный диапазон коннотаций. Они могут, так сказать, затаившись, скрываться в природе вещей, ожидая актуализации, при которой они будут «захвачены» словом tree как часть его значения в каком-нибудь будущем контексте. Итак, мое первое противопоставление касается двух множеств акцидентальных свойств; это противопоставление не является четким, то есть его нельзя всегда с уверенностью провести однозначно, но все же оно отражает нечто объективно существующее. Мое второе противопоставление связано с разграничением двух типов метафоры и основывается на сходных предположениях. Допустим, мы хотим разделить метафоры на два класса. Будем относить к классу I метафоры типа smiling sun 'улыбающееся солнце' или the moon peeping from behind the cloud 'луна, выглядывающая из-за облака'. Отметим, что обе эти метафоры живые, но в каком-то отношении они отличаются от тех метафор, которые можно отнести к классу II: the spiteful sun, unruly sun 'непокорное солнце', inconstant moon 'непостоянная луна'. Мы замечаем, что метафоры класса II как-то интереснее, чем метафоры класса I, хотя это, конечно же, не означает, что они предпочтительнее в любом поэтическом контексте. В чем же все-таки состоит различие? Обратившись к простой теории словесных оппозиций, можно заметить различие, связанное со способами толкования метафор. Метафоры класса II требуют более сложного толкования, чем метафоры класса I. Они, как представляется, больше говорят об объекте. Тем самым они более точны, и, рассматриваясь как описания, обладают большей различительной силой. Сказать о солнце «улыбающееся» — значит ввести достаточно широкое противопоставление солнцу, которое вовсе не способно улыбаться, или солнцу гневному, воителю пустынь. Но сказать о солнце, что оно «непокорное» — значит иметь в виду более глубокое различие между этим и другими свойствами, воспринимаемыми столь же определенно, такими, как послушание, точность, уважение к чужим желаниям. Заметим, что теория словесных оппозиций, даже в своей простой форме, допускает разную степень сложности и, вероятно, она сможет хотя бы частично объяснять различие между двумя классами метафор. Однако, кажется, ее возможности шире. Здесь мы подходим к очень сложному вопросу. При поверхностном рассмотрении кажется очевидным, что метафоры класса I избиты и банальны, а метафоры класса II свежи и новы. Если это наблюдение и не лишено правильности, то в нем все же скрыта подспудная опасность. Прежде всего, как мне кажется, не следует считать, что все дело в простом повторении. Быть может, smiling sun встречается в поэзии чаще, чем inconstant moon,
но даже если бы нам пришлось снова и снова повторять это словосочетание из «Ромео и Джульетты», так что в конце концов мы уже не понимали бы, что оно значит, оно не стало бы от этого более избитым. Как бы то ни было, если из-за частых повторений и возникает избитость, то наше подразделение связано не с этим. В то же время, хотя и не в первую очередь, природа той или иной метафоры не может быть полностью независимой от времени ее появления в английской литературе. Ее реальное или возможное значение в определенный период до некоторой степени опирается на другие контексты, в которых употребляется то или иное слово, а также на аналогичные или параллельные выражения, имеющиеся в языке.
IV
Предположим, что когда метафора th'inconstant moon была впервые сконструирована в английском языке, то это был первый случай метафорического использования слова inconstant, или, по крайней мере, первый случай, когда это определение применялось к неодушевленному предмету. (Это, конечно, не исключает того, что первоначально оно применялось только к неодушевленным предметам, например, относилось к их вращательным движениям; если в какой-то момент оно стало использоваться для описания психики или поведения, то именно тогда оно и стало употребляться метафорически.) В этот момент слово inconstant не имеет коннотаций. Следовательно, встретив словосочетание inconstant moon, мы вполне можем искать для него словесную оппозицию, однако когда мы перейдем к поискам релевантных коннотаций, мы обречены на неудачу. Как же тогда мы должны объяснять это словосочетание? Речевой контекст указывает, что оно осмысленно и эта осмысленность должна быть как-то интерпретирована. И тогда мы начинаем выискивать акцидентальные или возможные свойства, характерные для непостоянных людей, и последовательно приписывать те, которые нам удалось припомнить, луне. Эти свойства тотчас же войдут в значение слова inconstant, хотя лишь минутой ранее они относились только к соответствующим людям. Итак, можно сказать, что метафора трансформирует свойство (действительное или привнесенное) в смысл. И если, руководствуясь подобным принципом, другие поэты нашли бы иные метафорические применения для слова inconstant, в которых используются те же самые свойства и образуются сходные или пересекающиеся смыслы, то эти смыслы могли бы быть так тесно связанными со словом, что образовали бы его коннотации. В этом случае метафоры не только актуализовали бы потенциальную коннотацию, но и утвердили бы ее в качестве основной. Именно в этом вопросе теория сравнения объектов вносит в конце концов свой положительный вклад, так как совершенно
правильно предполагает, что иногда при объяснении метафор мы должны рассматривать свойства объектов, обозначаемых модификатором. Однако референция к этим объектам производится не для сравнения: она позволяет придать некоторым из релевантных свойств объектов новый статус элементов языкового значения. Предположим, что в некоторый момент истории английского языка уже существовали такие метафоры как smiling sky 'улыбающееся небо', smiling sea 'улыбающееся море' и smiling garden 'улыбающийся сад'. Естественно, во всех этих контекстах модификатор не может означать в точности одно и то же, однако некоторый общий смысл все же возникает. А теперь предположим, что этот общий смысл уже закреплен как коннотация слова smiling. Что же происходит, когда поэт впервые употребляет выражение smiling sun? Логическая оппозиция очевидна, поэтому мы обращаемся к основным коннотациям слова smiling и применяем их к слову sun (что соответствует простой теории словесных оппозиций). Однако дальше нам двигаться некуда — наверное, потому, что не можем, или же потому, что ничто нас к этому не принуждает. Как бы то ни было, мы видим, что перед нами метафора, мы можем правильно ее осмыслить, но не можем считать, что ее значение креативно, в отличие от метафоры класса II. Она просто заимствует свой смысл, опираясь на то, что уже установлено и доступно. Модернизированная теория словесных оппозиций может быть удачно проиллюстрирована на примере очень интересной метафоры, позаимствованной мной у Хенле. В одной из своих богословских работ Иеремия Тейлор пишет, что «целомудренные браки почтенны и угодны Богу», что вдовство может быть «любезным и милым, когда оно украшено скорбью и чистотой», однако «непорочность — это жизнь ангелов, эмаль души» ("virginity is a life of angels, the enamel of the soul" )20. Это не первое метафорическое использование слова enamel 'эмаль'; из словаря «New English Dictionary» мы узнаем, что Донн в 1631 г. употребил словосочетание enameled with that beautiful Doctrine of good Workes 'украшенный этой прекрасной доктриной добрых дел', а Эвелин в 1670 г. использовал выражение enamel their characters 'усовершенствуют свои характеры'. Более того, сам Тейлор в посвящении к своей книге проповедей ("Sermons") говорит «о тех истинах, которые есть эмаль и красота наших церквей (those truths which are enamel and beauty of our churches)». Быть может, такие употребления уже утвердили некоторые свойства эмали как основные коннотации слова enamel; быть может, это и не так. Надо быть уверенным в этом, чтобы с точностью отнести тейлоровскую метафору the enamel of the sole в контексте его книги "Of Holy Living" к классу И. Однако относительно нашего времени мы можем вынести более определенное суждение. Эмаль тверда, устойчива к удару и механическому воздействию, тре-
бует для своего изготовления усилий и мастерства и предназначена для украшения. Думаю, что не все эти свойства можно отнести к признанным коннотациям слова enamel. И все же говорить о непорочности как об эмали души — значит утверждать (на что и указывает Хенле), что она защищает душу и еще более украшает то, что и без того тщательно сработано. Итак, эта метафора не просто вводит в состав значения скрытые коннотации: она включает в него и такие свойства, которые до той поры не подразумевались. Как мне представляется, следовало бы выделить по меньшей мере три стадии в рассматриваемых метаморфозах значений, несмотря на то что отделить четко одну стадию от другой мы не можем. На первой стадии у нас имеется слово и свойства, которые определенно не относятся к интенсионалу этого слова. Некоторые из этих свойств способны стать частью интенсионала, войти в состав коннотаций. Для того чтобы обладать этой способностью, они должны относиться к достаточно общим (действительно существующим или приписываемым объектам) свойствам, к типичным свойствам — не просто в статистическом отношении, но и по существу: эти свойства должны быть нормальными и характерными для объектов, обозначаемых данным словом. Так, предположим, что кто-нибудь отнес бы белизну к числу коннотаций слова enamel. Думаю, это возможно, если бы большинство эмалей были белыми, или если бы белыми были все эмали, не подвергшиеся внешнему воздействию, или если бы белыми были лучшие эмали, или если бы из всех белых предметов эмали обладали наиболее интенсивной белизной. Когда слово начинает употребляться метафорически в контекстах некоторого рода, то некоторые из свойств хотя бы временно переходят в значение. А широкое знакомство носителей языка с данной метафорой или со сходными метафорами может зафиксировать свойство как полноправную часть значения. На этой второй стадии вхождение коннотации в состав значения не является необходимым условием использования слова. Так, даже если слово tree 'дерево' и имеет коннотацию 'высокий', то вполне возможно, не впадая в противоречие, говорить о низких деревьях. И все же, если кто-нибудь будет рассказывать о некотором дереве «в полном смысле этого слова» (ср. Он мужчина во всех отношениях), мы должны, я думаю, предположить, что имеется в виду, в частности, дерево, достигшее значительной высоты (по крайней мере, для деревьев этого вида). Когда, таким образом, коннотация становится стандартизованной для контекстов определенного рода и может приобрести новый статус, при котором она оказывается необходимым условием применения слова в данном контексте. Тогда коннотация образует новое стандартное значение. Иллюстрацией этой третьей стадии может служить «застывшая» метафора: слово tail 'хвост',
используемое по отношению к свету автомобилей, сейчас воспринимается как не имеющее ничего общего с хвостами животных, и это значение слова может быть воспринято и теми, кому неизвестно о том, что у животных бывают хвосты. На эту третью стадию переходят не все, но лишь некоторые метафоры. Возможно, частично это историческое развитие значения можно проследить на примере слов типа warm 'теплый' или hard 'твердый', которые были перенесены из сферы тактильных ощущений в область человеческой личности (и этот процесс произошел во многих языках21). Как мне представляется, первое применение слова warm к человеку должно былобы превратить некоторые акцидентальные свойства теплых вещей в часть нового значения этого слова, хотя сейчас мы легко представляем себе эти свойства как коннотации слова warm, такие как 'доступный', 'приятный при приближении', 'располагающий'. Эти свойства были частью потенциального диапазона коннотаций слова warm даже до того, как они были замечены в теплых предметах, которые так не воспринимались до той поры, пока они не были подмечены в людях кем-то, кто метафорически описал людей при помощи этих свойств, что и отразилось в семантике слова warm. Но до того как эти свойства стали основными коннотациями слова warm, нужно было обнаружить, что они могут обозначаться этим словом, когда оно употребляется как соответствующая метафора. И, наконец (хотя пока этого и не случилось), словосочетание warm person 'теплый человек' может утратить свой метафорический характер и имеющиеся сейчас коннотации слова warm превратятся в новое значение. Тогда эта метафора «застынет». Если модернизированная теория словесных оппозиций верна, она может оказаться весьма продуктивной. Она лучше объясняет удивительное разнообразие способов метафорического расширения нашего словесного репертуара, выходящего за пределы буквального использования языка22. Она раскрывает новизну выражения, изменения значений, в том числе и кардинальные. Она признает непредсказуемость метафоры, неожиданные эффекты, которые могут возникать даже при случайном соположении слов. Она показывает, что метафору можно объяснить объективно, поскольку свойства объектов и коннотации слов выявляемы, а споры по их поводу в принципе разрешимы. Кроме того, она объясняет сравнительную неясность, неочевидность значения метафор класса II, для полного осмысления которых может потребоваться значительное время.
V
Теория словесных оппозиций в несколько видоизмененной форме, по-видимому, может существенно способствовать удовлетворительному объяснению метафоры, если ее удастся защитить от возражений двух типов, предложенных в недавних работах.
Первое возражение могли бы выдвинуть приверженцы экстенсионалистской семантической теории смысла, противопоставленной интенсионалистской теории. Теория словесных оппозиций не может быть сформулирована без упоминания взаимно несовместимых свойств (то есть качеств и отношений); однако экстенсионалист не верит в существование свойств вообще. Разве не могли бы мы, может спросить он, обойтись без понятия несовместимости и трактовать метафоры просто как специальный случай материально ложных утверждений? Разумеется, есть разница между утверждением, что некто является лысым, когда этот человек не таков, и утверждением, что некто является львом, когда он львом не является. Однако, возможно, вся разница состоит просто в том, что второе утверждение необычнее, оно с большей очевидностью и определенностью воспринимается как неверное. Мы хорошо понимаем, каким образом говорящий может ошибиться в отношении лысости, но не понимаем, как он может принять человека за льва, и вот, вследствие явного неправдоподобия последнего утверждения в свете наших общих знаний о мире, мы отвергаем его буквальное понимание и воспринимаем его метафорически — скорее чем любую внутреннюю оппозицию значений. Мы могли бы разработать для таких случаев теорию «невероятности» метафоры и даже привести в ее подтверждение ряд примеров некоторых вырожденных метафор, подлежащих такого рода анализу. Например, шутник говорит: I was in Philadelphia once, but it was closed 'Я однажды был в Филадельфии, но она была закрыта'23. Является ли это высказывание по-настоящему внутренне противоречивым? Конечно, слово closed 'закрытый' нормально и наиболее уместно применяется к отдельным общественным пунктам типа магазинов и музеев, двери которых могут быть закрыты и заперты. Однако, вероятно, не слишком расширяя значение слова, можно сказать, что целый город тоже буквальным образом закрыт. Давайте сделаем такое допущение. В этом случае особый метафорический эффект — отрицание активности вечерней жизни в Филадельфии — должен зависеть от нашего спонтанного отказа воспринимать соответствующее утверждение как ложное, что обусловливается его очевидным неправдоподобием и внешней абсурдностью. Однако даже допуская наличие подобного языкового маневра, следует признать, что он не объясняет всех случаев. Противоположным случаем является оксюморон. Обозреватель в «Репортер» не так давно следующим образом характеризовал литераторов-битников: "writers who don't write who write" ('не пишущие писатели, которые пишут'). И это не просто необычное высказывание. Мне кажется, большинству метафор свойственна своего рода внутренняя противоречивость, четко отличаемая от таких высказываний, как приведенная выше шутка по поводу Филадельфии. Конечно, должны быть и пограничные случаи, когда почти допустимо воспринимать определе-
ние в его буквальном применении к определяемому; например, словосочетание bak'd with frost 'схваченный морозом' в «Буре» Шекспира (акт I, сц. 2, ст. 256), где bak'd могло означать thickened 'уплотненный', и все выражение, содержащее это словосочетание, возможно, понималось в шекспировское время буквально24. Второе возражение против теории словесных оппозиций может быть сформулировано следующим образом: даже если и существуют свойства, которые следует противопоставлять друг другу, то в обычном языке они не столь жестко закреплены с помощью родовых названий, чтобы могли проявляться явные противоречия. Допускается, что brother 'брат' и male sibling 'ребенок мужского пола тех же родителей' могут быть практически точными синонимами, если Принимаются во внимание их главные значения (а коннотации игнорируются); тогда выражение female brother 'брат женского пола' является внутренне противоречивым, хотя в нем, конечно, мало метафорического. Однако тезис здесь состоит в том, что для большинства интересных слов правила не столь определенны, и поэтому метафорическое употребление таких слов не может быть следствием того, что мы обнаруживаем несовместимость значений на уровне десигнации. Профессор Майкл Скривен25 утверждает, что слово lemon 'лимон' не имеет фактически никаких характеристических свойств в традиционном смысле, то есть таких свойств, которые должны присутствовать, если слово правильно применяется для обозначения некоторого объекта. Он цитирует толкование "Webster's Dictionary": "The acid fruit of tree (citrus limonia), related to the orange" ('Кислый плод дерева citrus limonia, родственный апельсину'), и это толкование, как представляется, отнюдь не задает необходимых условий для отнесения объекта к классу лимонов, так как мы не усмотрим никакого противоречия, если кто-либо скажет, что какой-то лимон рос на банановом дереве или вообще не рос на дереве. Скривен, однако, идет далее и заявляет, что вообще не существует ни одного такого свойства лимонов, которое, взятое отдельно, является необходимым при наличии многих других. И он полагает, что то же самое верно относительно большинства родовых названий в общеязыковом употреблении. Они обозначают то, что он называет «групповыми понятиями» (cluster concepts), и обладают «критериями» применимости, а не необходимыми условиями употребления. |


