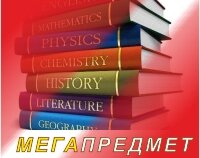 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.
| Софийский государственный музыкальный театр
Истинная дружба может существовать только при условии бесконечной доверенности и совершенной откровенности. В. Г. Белинский
Вот идут два поезда: один — с юга, другой — с севера. В первом из них древняя страна Болгария направляет в Советский Союз Софийский Государственный театр оперы и балета, а во втором поезде из СССР в Народную Республику Болгарию едет коллектив Московского драматического театра имени Моссовета. Это — знаменательно. Представьте встречу на полустанке: эти два поезда, согретые южным солнцем цветы, и вместе с этими волшебными дарами природы — горячие, восторженные чувства и жаркие объятия... Так народы несут друг другу свою любовь, свою дружбу, свое искусство. Обмен культурными ценностями, творческие встречи и беседы представителей двух братских национальных культур — высоких, гуманных — это огромный вклад в культуру общечеловеческую. Такие же дружеские встречи были в 1944 году, когда советские солдаты вместе с болгарским народом освобождали Болгарию от фашистской оккупации. Такие встречи были и ранее, когда болгарский народ в войне с Турцией завоевывал свою независимость, а русские солдаты самоотверженно помогали ему в борьбе. Милой Марицы Волны шумите! Для нашей жизни Нет уже оков...
Дай, дай, дай, Вседержатель наш, Вечную славу Руси за нас!
Эта песня, прославляющая совместные подвиги братьев-славян, долетела из Болгарии до степей Украины: мы, малыши-школьники, звонко ее пели, а моей детской душе рисовались образы героев-болгар и наших солдат... Думалось, что за народ эти болгары? Почему же живут они далеко от нас, а религия у нас одна? С особым волнением мы встречали в Москве своих братьев по искусству — деятелей Софийского Государственного театра оперы и балета. Софийский театр показал в Москве три оперных спектакля. Мне довелось присутствовать на первом представлении оперы “Момчил”, в которой отображена борьба болгар в XIV веке с феодальной Византией и Турцией. Болгария, как и другие страны, имеет свою историю, из которой можно почерпнуть материал для создания оперного либретто: в ней есть много горя и трагедий, но есть много мудрости, юмора и радости. В данном случае писатель X. Радевский остановился только на одной патетической героике, исключив из своего произведения всякую улыбку, юмор. К примеру, “Князь Игорь” — тоже опера героическая, но в ней есть комические персонажи — Скула и Ерошка; это, конечно, не основное, основное — в музыке, и о ней мы будем говорить, так как она, и только она, определяет оперный спектакль. Композитор Л. Пипков, автор музыки “Момчила”, замечательно владеет хоровыми и оркестровыми красками, которые дают опере ощущение мягкости и теплоты, оттеняют и дополняют идейный замысел драматурга. Вступление сразу же приобщает слушателей к мастерскому изложению музыкальной мысли, с блеском и знанием дела выраженной в ярких, красивых созвучиях. И даже когда в этой музыкальной ткани слышался какой-нибудь усложненный или острый гармонический аккорд, то и это воспринималось как безусловно правдивое. Композитор не боится усложненной и обнаженной мелодии. Пипков знает театр, знает его еще с тех пор, когда он, учась в Париже, работал статистом в “Гранд-Опера”. Этот театральный опыт, как видно, пошел ему на пользу. У Пипкова в музыке чувствуется известная рафинированность, некоторая пряность в оркестровом звучании. Здесь опять-таки сказалось влияние французских композиторов, так как, повторяю, Пипков учился в Париже у профессора П. Дюка. Партия Момчила, основная в опере, очень интересна и в вокальном и в сценическом отношениях. Момчил — это страстный борец за свободу родины, это борец за свое личное счастье. Какая палитра, какие краски! Может быть, этот образ раскрывается в опере несколько статично, но в этом есть своя сила и убедительность. В опере скупость — богатство. “Игра” — это мишура, которая часто уводит от оперной правды. Хочется сказать о замечательных хорах, чудесных ансамблях, ариях, особенно Елены. Блистателен дуэт Момчила с Еленой — очень волнующий и яркий речитатив. Все это сразу впечатляет и остается в памяти. Л. Пипков, следуя так называемому течению музыкальной драмы, не дает закончить монолога (как это называлось бы в драме; в опере эта форма называется арией). Возьмите любой классический спектакль: там всегда есть монологи, органически связанные с действием. И эти монологи читаются как отрывки в концертах, в отдельных выступлениях, а раньше их даже на спектакле бисировали. То же можно сказать и об оперных ариях, если они имеют законченную форму. Но теперь, в погоне за какой-то новой “правдой”, в конце монолога делается такая нарочитая модуляция, чтобы монолог, наоборот, не имел законченной формы. Так, например, было с чудесной арией Елены, взволнованно спетой К. Георгиевой. Здесь не хватило 2—4 тактов в музыке или большой паузы, после которых вышел бы хор. Получилось же так, что хор в самый поэтический момент сольного пения вышел на сцену (а мог бы выйти один певец!), чтобы сказать: “Пойдем в дом, ждут”, убив этим очарование арии Елены и помешав актрисе создать в этой картине законченный сценический образ. И это не мелочь! Это те “поиски нового”, которые, на мой взгляд, не нужны для оперы. ...Последние 20—25 лет существует тяга к особо острому драматическому действию на оперной сцене, причем оперу стремятся насытить этим действием, как и драму. Отсюда и появилось это “новое” — желание избежать отдельных арий, дуэтов, ансамблей. Одни поступают так по убеждению, другие — в силу недостатка мастерства, так как любую драму в музыке речитативом изобразить легче, чем кантиленным пением нарисовать образ того или иного героя. Правильно ли это? Я глубоко убежден, что неправильно. Законы оперы заставляют возродить все то, что является ее основой. Как бы ни дискутировали, как бы ни стремились быть сверхправдивыми, показывать “правду” в музыкальном театре, именно отдельные арии и ансамбли, законченные по форме, и являются настоящей оперной правдой. Я лично верю, что эти “монологи”, эти арии, если они будут удачными, будут по просьбе слушателей повторяться, и в этом — подлинное искусство, подлинная правда. Ю. Шапорин также пишет об отсутствии в болгарской музыке законченной формы. Хорошо, что один из самых талантливых композиторов нашего времени отмечает эту особенность. …Прекрасны хоры — по интонациям, по динамике, по тембру. Балет в опере воспринимается как закономерное действие. Поставленный с тактом и мастерством, он безусловно содействовал успеху спектакля. Радовал детский хор, радовал потому, что голоса мальчиков в возрасте 8—11 лет звучали очень чисто по тембру, необычайно приятно и не было форсированного звука. Значит, в будущем это принесет юным певцам только пользу. Несомненно, что это те кадры, из которых потом вырастут певцы, музыканты, композиторы. Более того, они могут быть и наверное будут педагогами по пению в средних общеобразовательных школах Болгарии. Эта ценная традиция, надо надеяться, возродится и в наших школах. ...В опере “Момчил” много мест, где так подчеркнуто реалистически, чтобы не сказать — натуралистически, показана “правда”, что она уже не воспринимается как правда оперного театра, теряет свою поэтичность. Например, сцена в горах. Артисты удачно расположены режиссером; в их гриме, одежде, в положениях все естественно и жизненно. Но вся эта “правда” мало гармонировала с “правдой” звучания хора, который замечательно поет а-капелльно. Получилось так: слышалось “ангельское” (в аллегорическом, конечно, смысле) пение, а виделись суровые лица обездоленных людей, которым были под стать кирки, кинжалы и мушкеты. Перенесите все в условную правду — это будет закономерно! В Болгарии — горы: это правда. Высоко над ними облака — тоже правда. Сквозь их движение то вырисовываются, то исчезают блики лиц. И тогда горе народа в звучании хора будет правдой, главное, это будет правдой звуковой и зрительной. Хотелось бы и большей поэтичности в работе постановочной части: какой бы, например, дала эффект небольшая дымка облаков в этой же сцене, то закрывающая поющий хор, то открывающая его; фантастика тут была бы закономерна и дружна с правдой. Такой прием дал бы лучшее ощущение прелести национального колорита. Жар-птицу нельзя показывать на сцене в то время, когда музыкальная ткань в оркестре не соответствует этому образу. Композитор Л. Пипков эти тончайшие детали учитывает, а режиссеры нет. Сложно это? Нет. Простое разногласие, простое разрушение формы. Все это относится не только к болгарской опере. Душа народа познается и по малой форме... Мне кажется, что сейчас уже на отливе находится гигантомания. Порой чувство досады вызывает тот факт, что на сцене хор в составе 40—50 человек, а в оркестре — 100—115 музыкантов. Это является попросту н а р у ш е н и е м звуковой волны и вокальной дисциплины. Или все время надо петь напряженным голосом и прорезать эту оркестровую гущу, или ждать того счастливого случая, когда дирижер будет добиваться гармонического звучания с п е к т а к л я, а не к о н ц е р т а симфонического оркестра с подпевкой солистов. Надо ли стремиться во всех случаях к огромным масштабам? К нам часто приезжают зарубежные артисты небольшими группами, даже в составе двух-трех человек. И познаешь их искусство не с меньшим, а порой и с большим удовлетворением, чем то, что рассчитано на “грандиозо”. “Манией грандиоза” заболели многие театры — и Киевский, и Ленинградский, и другие. Особенно подвержены гигантомании некоторые дирижеры и директора театров, которые хотели, видимо, тем самым закрепить свое имя в истории искусства. Если, мол, их вспомнить нечем, то скажут: “При таком-то был увеличен оркестр с 40 до 100 человек!” Масштаб зла не тот, чтобы сравнивать этих деятелей с Геростратом, но зло есть, и весьма существенное. Эти люди, видимо, не подумали об акустике. И не такие уж были беспомощные, вероятно, строители старых театральных зданий: они учитывали законы музыкального звучания. Имеет значение, кроме того, и рассадка оркестра, то есть глубина, на которой находится оркестр. Теперь почти всюду оркестр поднят на полметра или даже на метр. Причем те дирижеры, которые боролись за то, чтобы изменить эти вековые традиции (их не так много — один-два), при такой посадке добивались звучания, при котором был бы истинно оперный спектакль — оркестр не заглушал певца. Это же очень важно! Но эти считанные дирижеры, которые умеют владеть оркестровой звучностью, как правило, дирижируют очень редко, в месяц два-четыре раза, а все остальные спектакли проходят в непомерно скверных условиях, с нарушением звучности, с нарушением акустики, так как руководители оркестров просто не в состоянии регулировать силу звучания. От этого часто пропадает в пении слово... ...Звучание оркестра Болгарской оперы прежде всего очень профессионально. В нашем понимании — это высокая оценка. Оркестр с его четким, буквально чеканным ритмом является фундаментом всего спектакля, но он, за редким исключением, не давит, не заглушает певцов на сцене. А как это важно! Конечно, в этом несомненная заслуга главного дирижера театра, народного артиста, лауреата Димитровской премии А. Найденова. Было понятно, чего он хочет не только в тот момент, когда он делал движения на первую четверть, но он будто предугадывал желание певца и в последующих тактах. Это бывает в тех случаях, когда у дирижера есть с в о я м ы с л ь, с в о е о т н о ш е н и е к произведению. И эту мысль он передает с ясностью и законченностью движений, которые свойственны только ему, и эту мысль понимают оркестр, солисты, хор — весь сложный ансамбль. А в результате — хороший спектакль. Есть еще одно качество и даже, пожалуй, главное для дирижера: способность предугадывать интерпретирование артистом действующего лица на сцене, то есть жить одной жизнью с исполнителем. Такое понимание дает великое, настоящее наслаждение для поющего артиста и для слушающих. Эта редкая способность проявлялась дирижерами болгарского театра... ...Довелось мне послушать отрывки из “Ивана Сусанина” в исполнении болгарских артистов только в записи на тонфильм: в день спектакля я был занят в концерте. Хочется сказать — хорошо! Но этого мало, в это слово надо вложить содержание. Хорошо прежде всего с точки зрения вокальных принципов пения, а эти принципы сейчас повсеместно обсуждаются — идти ли за Вагнером, идти ли за Верди? Я думаю, что болгарские артисты поступили правильно, избрав золотую середину — и вагнеровский речитатив и вердиевскую кантилену,— но сохранив при этом свою исполнительскую манеру, которую, может быть, следует назвать “славянским” стилем. Их пение звучит одинаково прекрасно во всех регистрах. Я попал лишь к концу “Ивана Сусанина”. Ну, о финале побеспокоился сам Михаил Иванович Глинка. Звучал он хорошо — сопрановое до наверху было чистое и ровное. Может быть, следовало бы и закончить спектакль так: везде убрать свет, всю массу притемнить, оставив видимыми только Минина и Пожарского в застывшей позе, которые из XVII века перешли в наш, XX, и это уже воспринимается как памятник им. Содеянное на пользу народа, на пользу отечества не погибает, оно звучит. К сожалению, некоторые режиссеры любят в финалах показывать немые сцены, напоминающие мне “живые картины” гимназических вечеров в начале 900-х годов. Вообразите, театр полон звучания. Дается занавес, и, естественно, звучание исчезает, а остается “видимость”, то есть “живая картина”. Но она уже не живая, потому что в ней нет звучания, так как композиторы не предполагали, что в наш век будут показываться живые картины. Повторять музыку дирижер не рискует — и правильно. И вдруг зрители видят эту же картину, но совершенно лишенную музыкальной динамичности, которая дается звучанием оркестра, хора и действующих лиц. Эта картина выглядит, как изображение на коробке. Почему? Да именно потому, что в опере беззвучие картины противоестественно, незаконно, это — плакат. И то, что такие “живые картины” появляются в опере в наши дни,— это шаг назад, это не на пользу искусству. К сожалению, не удержались от этого соблазна и постановщики “Ивана Сусанина” в болгарском театре... ...Существует пропасть между натуралистическим правдоподобием и подлинной творческой правдой театра. Даже малейший налет натурализма нетерпим, с моей точки зрения, в балетном искусстве. “Хайдутская песня”... Горит дом, причем горит настолько естественно, что я уже не гляжу на артистку, которая в это время делает сложные, трудные движения — на пальцах обходит весь круг, изображая ужас. Мне жаль ее, как товарища! Ведь чем ярче было ее искусство как танцовщицы, тем острее ощущалась ненужность “правды” горящего дома! Или нужна была вода, чтобы залить пожар, или нужно было спустить артистку на нормальную ступню, и даже не пантомимой изображать отчаяние, а, может быть, кричать: “Спасите! Помогите!” Пиротехника вступила в противоречие с многовековой культурой балета. И дальше. Хорошо ли взрослым людям, художникам (хотя и по-разному, но глубоко мыслящим!) прибегать к плакатным приемам? Судите: на первом плане — ребенок пяти-шести лет, который ищет свою мать, погибшую во время нашествия врагов. Он делает заученные движения, к которым приучил его взрослый дядя. Осмотрев трех “убитых”, он находит наконец свою мать, а затем начинает “плакать”. А так как балет-пантомима идет без возгласов, то “плач” передается вздрагиванием детских плечиков. Ужасно это! Постановщики балета напрасно пошли по пути какой-то “сентиментальной фотографии”. Взрослые должны не детьми отыгрываться, а искать новые формы, которыми можно убеждать аудиторию. Посадить на сцене ребенка над трупом — это не только натуралистично, но и противоестественно. Было бы лучше, если бы в 11 часов вечера этот милый ребенок сладко спал, а взрослый дядя-постановщик изъяснялся бы с аудиторией языком художника. В “Хайдутской песне” непосредственного танца не так уж много. Возникают в связи с этим балетом и другие недоуменные вопросы. Вот, например, фото: оно напечатано в программе гастролей, значит это лучшее? Позы балерины и ее партнера можно считать и на самом деле хорошими, если одной рукой закрыть поочередно кого-нибудь из них. Почему так? Да потому, что артист один воспринимается художественно, ему веришь. Одна артистка тоже возражений не вызывает. Но что получается вместе? Он, одетый в постолы, стоит в четвертой позиции и шлет проклятья врагам родины, а она, в двух селянских юбках, стоит... в позиции классической арабески! Вы видите только изображение, но и оно режет глаз, а представьте себе героиню с патетически-взволнованным лицом, в развевающихся “бытовых” юбках! Эти двойные юбки были бы законны в характерном и гротесковом танце юмористической окраски. Но в драматическом балете “Хайдутская песня” бытовой костюм и классический балетный прием — явное нарушение гармонии между формой и содержанием. Одно с другим резко спорит. Вы спросите, а как же тогда “Ромео и Джульетта”? Но ведь артисты посредством пластики и выразительных движений почти дословно “читают” зрителю текст гениальной трагедии Шекспира, а в их к о с т ю м а х е с т ь х у д о ж е с т в е н н а я п р а в д а... В самой музыке болгарского балета пленяет мастерство композитора А. Райчева: она чудно оркестрована, и в некоторых местах ощущается влияние “Болеро” Равеля. Осталась в памяти музыка характерных танцев. Мощно и выразительно звучит воинственный танец хайдуков. Эта музыка, несомненно, может быть иначе, по-другому раскрыта в балете. Как радостно быть увлеченным! Это чувство я испытывал на заключительном концерте, который прошел на высоком уровне музыкального мастерства. В болгарском театре есть хорошие певческие кадры, и каждый из артистов вносил свой вклад в это большое и прекрасное целое. Более пяти веков мы были разъединены с братским болгарским народом, и потому такой живой, острый интерес проявляют сейчас советские люди к его древней культуре. Мы знаем, что деятели болгарского искусства обладают высоким мастерством, они приобщены и к русской и к мировой культуре, сумели творчески усвоить и обогатить эти достижения... Но встает такой вопрос — почему, часто прибегая к помощи наших режиссеров, болгарские товарищи так слабо еще выдвигают свои режиссерские кадры? Традиции болгарского театра значительны и плодотворны. И хотелось бы, чтобы в его современном искусстве ярче расцветали национальные краски, обогащалась и развивалась национальная форма сценического искусства. Болгарский писатель Д. Пантелеев сразу же поставил нас в известность, что искусство Болгарии, в частности оперный театр, осознали систему Станиславского через наших представителей. Мне бы не хотелось, чтобы сложилось представление, будто для нас живое творческое наследие великого режиссера Станиславского, который до последнего своего часа был весь в исканиях, — это некий свод обязательных правил. Такое понимание нанесло, с моей точки зрения, немалый вред развитию нашего искусства. Не будем скрывать и того, что наряду с подлинными учениками и последователями Станиславского встречаются у нас эпигоны, понимающие “систему” догматически и претворяющие ее натуралистически. А натурализм — смерть для искусства, особенно для оперного и балетного. Натуралистические веяния, идущие от неверного понимания “системы”, встречаются и в искусстве наших друзей. Видимо, этим и можно объяснить, что в сцене “Корчма” в спектакле “Борис Годунов”, показанном нам Польским оперным театром во время его гастролей в Москве, хозяйка на первом плане стирала белье: пенилась вода и летели брызги... И чем больше она стремилась к “правдоподобию” движений, тем больше она спорила с настоящей оперной правдой. Все это вызывало смех довольно сдержанного зрительного зала, так как настоящая стирка в опере противопоказана. Думается, что почитатели применения “системы” в опере были убиты этим “достижением”. Прав был Виктор Гюго, говоря: “Театр не есть страна реального. В нем картонные деревья, полотняные дворцы, тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, румяна на щеках, солнце, выходящее из земли. Театр в то же время есть страна настоящего: на сцене есть человеческое сердце, за кулисами — человеческое сердце, в зрительном зале — человеческое сердце”. Настоящая театральная правда ничего общего не имеет с натуралистическим правдоподобием. Достаточно вспомнить восторг и радость Станиславского по поводу условного спектакля “Принцесса Турандот”. И в этом спектакле, как известно, была художественная правда, театральная правда, но отнюдь не натурализм, который некоторые именуют сейчас реализмом. Можно спросить, как я представляю себе театральную правду? Отвечу: вот китайская опера “Седая девушка”. На пустой сцене одновременно вы видите семью, греющуюся у казанка, и рядом человека, который замерзает. А на сцене нет ни снега, ни ветра, ни громоздких и “правдивых декораций”. А как же ощущается, где лед и где пламень? Простыми движениями артистов. Когда они поднимают ногу, будто бы переступая через порог дома, они своим артистическим искусством доносят до зрителей тепло и уют домашнего очага. Это было так понятно! И никому в голову не пришло, что это неправда! Не зная языка и слушая незнакомые мелодии, наша аудитория с затаенным дыханием и интересом переживала горе поэтической китайской девушки. Это правда искусства, которая создавалась тысячелетиями; время, этот великий испытатель, подтверждает ее силу. Никому это не нужно, чтобы все режиссеры были похожи один на другого только для того, чтобы казаться похожими на Станиславского. Ничего, кроме вреда, это не принесет искусству. Кстати, и сам Станиславский на разных этапах своего творчества вовсе не был “похож” на самого себя: он постоянно искал, требовал, творил, экспериментировал. Станиславский — велик, но разве до Станиславского не было искусства? Не было ни Щепкина, ни Ермоловой, ни Федотовой? У Щепкина, Ленского, Ермоловой, Комиссаржевской, Заньковецкой, Садовского и Немировича-Данченко, у Шаляпина, Неждановой, Собинова, Лосского, Алчевского и Стравинского (певца) — у каждого из них была своя система. И каждый из названных режиссеров и актеров был ярчайшим событием в искусстве, каждый из них внес в сокровищницу русского театра свое мастерство, свое вдохновение, свой творческий почерк. Можно считать автора “системы” пророком, но не обязательно каждому исповедовать его истину. Неужели Попов, Симонов, Кедров, Охлопков, Завадский, Лобанов, Ливанов, наконец, наши оперные режиссеры так едины в своем режиссерском почерке? Обладают ли они одинаковым вкусом и одинаковым режиссерским темпераментом? Такое единение и единодушие ценно в понимании гражданского долга. Но нивелировка художественного почерка и того многообразия, которое необходимо для развития нашего искусства — пагубна. Вот мысли и впечатления, возникшие у меня во время гастролей Болгарского оперного театра, которыми я хотел искренне поделиться со своими товарищами по искусству. 1954
|


