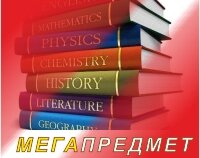 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.
| Духовность формируется с детства 8 страница
Евдоким Карпович — победитель гонок на лодках в Киеве в 1913 году — получил первый приз. Юмор у него острый, доходчивый. Сила физическая очень убедительная. И нетрудно представить, когда он с булавой, маленький, коренастый, с оселедцем пел финал оперы “Тарас Бульба” — “Ой, лiтав орел”, и когда обращался к убитому им сыну Андрию, это всегда доходило не только до зрителя, но и до участников спектакля. А немного отойдя от накала страстей, Евдоким Карпович уже рассказывает в артистической уборной что-то с юмором. Очень переживал обиды. И не только за себя. Мне недавно напомнили, как он был огорчен и расстроен, как возмущался, что на вечере в Большом театре, посвященном 100-летию со дня рождения Л. В. Собинова, мне даже не предложили участвовать ни в каком качестве по воле тогдашних заместителя министра культуры В. Ф. Кухарского и директора театра М. И. Чулаки. Был я на юбилее Евдокима Карповича в Киевском оперном театре, когда ему исполнилось 80 лет. Записали мы с ним в это время дуэт “Де ти бродиш”. Звучал он хорошо. С е м ь я Ш а л я п и н ы х. Кроме самого Федора Ивановича, я знал всю семью — Иолу Игнатьевну, Ирину, Бориса, Лидию, знаю Федора и Татьяну. С Борисом Федоровичем мы пели дуэт, он пел и один. Это зафиксировано на кинопленке, благодаря пониманию и оперативности Б. М. Филиппова и кинооператора А. Л. Хавчина. Очень обаятельный он был человек. И опять — сколько упущено возможностей! Замышляли мы с Борисом Федоровичем поставить “Моцарта и Сальери” Римского-Корсакова. Он — Сальери, я — Моцарт. Мы были готовы, но вувязках и согласованиях утонуло и это. С Ириной Федоровной встречались часто. Помню ее еще в годы войны. Очень уважал ее труд по сохранению того, что было связано с творчеством отца, а времена были разные... С напева Ирины Федоровны записали два романса, потом я записал их на пленку вместе с гитаристом В. Широковым. Это романсы “Всех покину” и “Вы не придете вновь”. Не довелось никому из них, кроме Татьяны Федоровны и Федора Федоровича, стать свидетелями переноса праха Федора Ивановича на родину. Хлопоты эти начались давно. На одном из приемов я обратился к Председателю Совета Министров РСФСР с такой просьбой. Она была встречена с пониманием. Много сделали для этого заместитель председателя комитета “В защиту мира” М. И. Котов и писатель В. Д. Захарченко. Большую помощь оказал настоятель храма в Ярославле Б. Г. Старк, который принимал участие в отпевании Ф. И. Шаляпина в Париже. Хочу сказать несколько слов о замечательном певце, теноре, которого незаслуженно редко вспоминаем. Это — Д м и т р и й А л е к с е е в и ч С м и р н о в. Он пел весь теноровый репертуар в очередь с Л. В. Собиновым. Трагична его судьба. Он приезжал на гастроли в Советский Союз в 1928 — 1929 годы, пел в Большом театре Фауста, пел и Германа в “Пиковой даме”. Большой мастер, именно — мастер. У него был неустойчивый звук, но он избавился от этого недостатка, благодаря упорному труду и хорошему советнику-педагогу. Я впервые услышал его в Киеве на репетиции “Риголетто”. С ним был костюмер, по фамилии тоже Смирнов. Следуя правилу — как можно меньше разговаривать вовремя спектакля, певец объяснялся с костюмером знаками или свистом, указывая, что нужно делать. В то время так поступали почти все. В Театральном музее имени А. Бахрушина — портрет Д. А. Смирнова во весь рост: стройный, красивый. Жизнь окончил в Риге, там и похоронен. Всех мне хочется вспомнить...
Мне посчастливилось встретиться Елена Бекман-Щербина Вы спрашиваете о Елене Александровне Бекман-Щербине. Боже, как это имя звучало в двадцатых годах! Неужели все тленно? А ведь это не так. Те люди, которые сегодня звучат — пианисты, скрипачи, певцы, так или иначе обязаны своим предшественникам. Вот я постоянно хожу на концерты в Большой зал консерватории. На днях был концерт необычайный. Это Евгений Малинин играл Шопена. Так получилось, что в ложе я был один. Играл он вдохновенно. Он играл так, как всегда говорил Константин Николаевич Игумнов: — Не надо, чтоб пианист хватал себя за волосы и делал лишние движения. Так вот Бекман-Щербина имела право и на подобные движения: женщине как-то прощаются и экспансивность в поведении, и лишние движения, и лишние взмахи рук. Но то, что я помню, этого-то у нее как раз и не было. Она удивительно была сдержанная. В двадцатых годах, да еще до революции, такие, как она, а также Гольденвейзер Александр Борисович и еще ряд профессоров Московской консерватории на окраине занимались с теми людьми, кто не мог ходить на концерты и не имел средств заниматься. Так на Арбате был создан народный университет, где преподавали и Бекман-Щербина и Шацкая и др. Это та просветительская работа, которая дала свои всходы во многих поколениях. Я начал бы разговор о Бекман-Щербине такой фразой. Она из некрасовских женщин. То есть — делать вечное, доброе, разумное, но так, как будто это само собой разумеется, как будто это так и надо. То есть никто об этом не знает, никто об этом не шумит. Она была не криклива. К искусству так и надо подходить. Другого ключа нет. Прежде всего это должна быть высокая моральная настроенность. Как этому научить? Что это должно быть — шелест деревьев, всплеск волны, общение, раздумье? Неведомо. Но постичь это надо. И вот мне казалось, что она в своей музыке несла своим ученикам эту самую главную суть. Очень хорошо, что о ней вспоминаем, потому что есть, вероятно, много учеников, много записей о ней. И еще я скажу — она принадлежит к тем людям, которые в самое трудное время никуда не стремились бежать. Я ее не помню в положении, при котором бы она стояла, фигурально выражаясь, с протянутой рукой. Это поколение людей, которые стремились максимально отдать то, что они могут. А вообще высшее наслаждение, если есть большая ответственность перед обществом, перед судьбой, перед самим собой — это отдача. Таким качеством она обладала. Говорить о том, кто как играл? Надо слышать! Конечно, это, может быть, поучительно. Какая педализация, какая аппликатура — это специальный разговор. А поговорить об общечеловеческих поступках и о значении в искусстве важно. Она, конечно, не одна. А Константин Николаевич Игумнов? Генрих Густавович Нейгауз? А их предшественники, которые необычайно много внесли в музыкальную культуру. Раньше в оперу приходили люди, которые знали ее, понимали ее особенности. Текст интересовал их меньше, их интересовало звуковедение, как певец вокальными средствами раскрывает образ, как он филирует, то есть его мастерство. И через музыку, а не через слово, они чувствовали драматургию. Это, кстати, с моей точки зрения, ошибка и современных многих постановщиков, которые чаще исходят именно от слова. От этого масса всяких несуразностей. Вернемся к Бекман-Щербине. В 20-х годах имя Елены Александровны было притягательно и для музыкантов и для тех, кто любит музыку. У нее была своя аудитория. Она играла множество вещей. Она обладала блистательной техникой, звуковой углубленностью. У нее были гармоничные, глубокие звуки. Помимо Большого зала консерватории, был Сокольнический круг, где выступали и знаменитый А. И. Орлов и Сергей Васильевич Рахманинов; симфоническими оркестрами дирижировал В. И. Сук. Там выступала и Бекман-Щербина, и мне тоже доводилось там выступать. Причем, в первом отделении я пел Бетховена, а во втором пел старинные романсы, например, “Три розы”. А после этого появилась статья, что стыдно артисту, который поет произведения Бетховена, потом петь какие-то сомнительные романсы. Да, на Сокольническом кругу были замечательные концерты. При такой населенности, какая у нас сейчас в Москве, у нас фактически нет летней площадки, где бы симфонический оркестр мог показывать свои программы, как во всех остальных республиканских городах. Я уже не говорю о курортных городах. Елена Александровна выступала, кстати сказать, вместе с А. Орловым, С. Самосудом, знала лично Рахманинова. И в концертах ее была, я бы сказал, просветительная миссия. Я хочу закончить свою мысль тем же, с чего я начал: всякое движение в искусстве сегодня — высочайшая заслуга тех, кто до нас жил. И только так. В этом есть закономерность.
Александр Довженко Прошло 25 лет, четверть века, как ушел из жизни Александр Петрович Довженко... Передо мной лежит книга. В книжке то — или вернее частица того, что он нес в себе, как художник, как патриот, как гражданин и необычайный человек — по отдаче, по восприятию и по ... линии проповедничества. Во многих он вселял какое-то непонимание и даже раздражение вот таким наставническим, безапелляционным тоном. Но это не так легко дается — за это надо было платить кровью, бессонными ночами, чтобы доказать, что он искренен, что ему ничего не надо, кроме той правды, которую он, как художник, ощущал острее, чем другие, и которую проповедовал. Так вот, я начал о книжке — и должен просить прощения. У кого? Формально говоря, у тех людей, которые в первые дни после смерти Довженко обратились ко мне: напишите о нем — хоть коротко, хоть телеграфно... Признаюсь, я много видал смертей, переживал их и сейчас переживаю — привыкнуть к этому невозможно! Хотя закономерность ухода для всего живого мне понятна. Я тогда был скован, окаменевший. И кроме того — Юлия Ипполитовна, его супруга, она была подавлена настолько, что просила, чтоб я не делился своими впечатлениями сейчас и не давал ничего в печать. Сегодня я об этом говорю, потому что Юлия Ипполитовна Солнцева бодра как художник, ее ценят, любят; совсем недавно, 25-го ноября мы собирались за тем же столом, где встречаемся уже много-много лет и встречались при жизни Александра Петровича. Тогда ее, как художника, как взволнованного человека, можно было понять; я находился под тем же впечатлением — а теперь я охотно отвечаю на все вопросы — это мой долг, который я пытаюсь как можно шире и полнее выполнить и поделиться с людьми, которые, несомненно, в будущем будут интересоваться: а кто такой Довженко как человек, как поэт. Хочу начать с “Очарованной Десны”. Тут есть необычайные слова, которые бабуся, любимая им, произносила во всех случаях. Она так художественно бранилась, что гоголевские перекупки и Солохи — они должны были бы еще поучиться у рiдноî 6a6yci Александра Петровича. Она там говорит такие слова: — Покарайте його, святi голубонькi, i ти мати божа! I щоб не знав вiн нi сну, нi вiдпочинку! I пошлiть йому, благаю вас, такого начальника — дальше идет многоточие... Такого начальника, чтоб он всю жизнь мучился и страдал! Проклятья бабуси на всю жизнь были памятны Сашко. Ему, действительно, не везло с начальниками... Я сейчас улыбаюсь потому, что это лучше, чем грустить. Но осознаю, что эти начальники не ушли вместе с жизнью Довженко. Ведь Довженко силен был тем, что он обобщенно представлял себе самые незначительные факты, которые он видел; он не случайно сказал: надо и в луже видеть отражение звезд. Ему принадлежат и другие слова: я рассчитан на большее... Это он сказал в свои юбилейные дни, когда его чествовали. Он сознавал, что не все отдал — и по сути, это трагедия каждого художника, который понимает свою ответственность перед обществом, перед страной, в которой он живет, перед своей совестью. И это та печаль, которая всегда всем нам должна напоминать: если можешь работать, — работай, если не созрел твой творческий труд, который ты сегодня можешь демонстрировать — показывать или исполнять, — не тужи... не тужи, день настанет, минет печаль — и мажор вновь зазвучит! Вот тогда ты должен показать, написать, отдать! Начал я с “Очарованной Десны”, потому что нет года, когда бы я там не бывал и один, и с друзьями, и вместе с детишками села Марьяновки из музыкальной школы. Человек сорок — шестьдесят с музыкальными инструментами мы бываем на родине Довженко. Были и в этом году. Не по нашей вине мы поздно приехали и застали только директора и милую служащую музея. Была наша беседа у костра. А разжигать костер около усадьбы опасно, потому что соломой покрыта довженковская хата. Мы сделали это с величайшей осторожностью, да и ветер, к счастью, дул в другую сторону. Спели: “Чуеш, брате мiй...” — песню, которую он любил. Когда мы в Москве его снаряжали в последний путь, тоже звучала эта же песня и совсем недавно я пел ее на вечере, посвященном Петру Панчу, его другу и приятелю, пел я эту песню и на вечере Юрия Смолича. У Сашкá была необычайная жизнь. В самые трагические моменты он говорил с усмешкой, иронией, а ирония была на грани того, как бы не расплакаться либо ему, либо тем, кто его слушает. Он бывал у меня и не раз. Часто звонил, спрашивал: ты один дома? — Один.— Я прийду. Поспiваемо. Я не очень люблю петь — это моя профессия. Но бывали случаи, что я пел для того, чтобы он сам пел. Он пел задушевно. Но чаще копировал, иронизировал над тем, как поют оперные певцы, издевался над “Запорожцем за Дунаем” — как играют и изображают ныне Карася. Он утрировал, но это было талантливо и смешно. Делал он это сознательно, как бы говоря, как не надо делать. К сожалению, и сегодня еще это бытует, когда разумного Карася изображают пьяным, поддергивающим шаровары — вот-вот штаны упадут, когда он лезет за горилкой и т. д. Когда Александр Петрович был в наркомате просвещения — даже не знаю, как вызывалась должность, в которой он был,— это в первые годы Советской власти на Украине,— в приемной появился необычайного вида человек — кудлатый, в какой-то бархатной сорочке и в длинной хламиде. А рядом с ним красивый военный. Военный обратился: “Разрешите доложить”. И говорит: “Я изобрел аппарат, посредством которого человек может подняться ввысь”. И показывает на потолок.— “Как ввысь?” — “Да, говорит, на небо, выше неба”. Довженко с вопросом: “И вы полетите?” — “Да”.— “А мене вiзьмете?” Такой он горячий был и в радости и в печали. Вот сияющий Колонный зал в Москве. Довженко на трибуне. И говорит о том, что нам пора подумать о Вселенной, о том, что там, выше. И тут же в президиуме раздается реплика — неприятная, одергивающая. Сказавший эту реплику (мы с ним встречались), теперь крайне об этом сожалеет, говорит: оказалось, Сашко был пророк, а я в это время не был им. Но фраза: “Довженко говорит о космосе, а нам надо думать, как жить на земле”, сказанная вскользь, долетела до всех, и в ответ на нее раздался хохот. Я вспоминаю саму мысль, может быть, она была изложена иначе. Суть не в этом. Повторяю: раздался хохот, и после этого говорить дальше на сцене не каждый смог бы. Лицо Довженко побледнело. Это бывало часто. Смерть его это и доказала: она была мгновенной. Мы стараемся не говорить об этом, но я помню, как его несли, и ноги его, опущенные, колыхались в ритме, в котором его спускали по лестнице... и я думал: это те ноги, которые с такой святостью ходили по земле, так его любившей, ценившей философскую мысль его как человека... И именно “Земля” — я имею в виду художественный фильм — пронесла его по всей Вселенной. Теперь, когда мы поняли, что есть главное в кино, “Земля” Довженко идет на уровне всемирных кинолент... Вернемся к Колонному залу. Смех раздался. А ведь сейчас выходит, что Довженко — пророк... Он во многих случаях был пророком. Я вспоминаю, как он сидел за столом — и очень быстро ел. Он страшно не любил людей, которые медленно едят: ему хотелось задавать вопросы и слышать вопросы. “Що ти чув, що ти знаеш? Скажи менi — i я тобi скажу”. Он был горячий человек... Страдал он — мучительно страдал от всякого рода прилипал, от подхалимажа, который мешал всякому движению вперед. И как правило, это было связано с фактами необычайными, почти пошлыми. К примеру. Он как-то пришел, спрашивает: “Что делаешь?” Я говорю: “Вот готовлюсь к записи, к концерту в Большом зале консерватории, буду петь старинные колядки. Одна из них поется так: Ой радуйся, земле, сын божий народився!” А вот маленькая книжечка — “Колядки”, изданы они сейчас. Не хочу называть ни год, ни авторов — пусть даже по необходимости переиначили здесь слова, все равно не следовало этого делать. В новом тексте: “Ой радуйся, земле, Ленiн народився...” Разве нельзя возвеличить имя Ленина по-другому? Мне посчастливилось знать Дмитрия Ильича Ульянова. Я помню его строгость, я помню, как он, уже без одной ноги, критиковал — это было во время войны, в 42 году — за то, что мы ставим оперу под названием — “Сусанин” — раньше она называлась “Жизнь за царя”. А мне довелось участвовать в этой опере, когда она носила название “Серп и молот”. Теперь над этим все смеются, но тем не менее это было и, чтоб спасти гениальную музыку, всякие были выдумки. Вот мне и думается, что здесь тоже эти выдумки не на пользу. Так вот Довженко мог от этого расплакаться: мол, как же, какой же деспот это делает и зачем? Даже если он голоден, он не должен этого делать. Такое же отношение у него было и к тому, что он делал в кино, к своим задумкам. Я эти факты привожу о Довженко, чтобы сказать тем, которые не выносили его наставнического тона. Он был всегда такой, он родился таким. Он иронизирует над проклятьями своей бабуси, когда ему было еще 5—б лет, но с какой теплотой он об этом говорит! Как художник он понимал и как художник воспринимал художественное начало, творческую фантазию. Были классики украинской сцены — Садовский, Саксаганский и Карпенко-Карый. Каждый в отдельности — это колосс. Это неповторимое, это то, перед чем нужно шапку снять, и мы снимаем, и грядущие поколения снимут. Но попробуйте их вместе объединить — они почти всегда были несговорчивы. А когда они вдруг объединялись — это было поразительно для всех тех, кто любит искусство. Это бессмертно. Вот и Сашко Довженко — он бессмертен... * * * ...Думаю, довженковские идеи не были преждевременными. Его мысли, тревоги и сомнения, его мечты, проекты и планы могли целиком стать “сценарием для жизни”, как он выражался, но прислушивались к нему в его время мало, до горечи мало. Если бы учли то, на что он обращал внимание, то, возможно, многих ошибок можно было бы избежать. Уместно ли в таком случае говорить о его пророческом даре? Я скорее сказал бы, что Александр Петрович имел нормальный, если хотите,— здоровый и потому правильный взгляд на вещи. ...“Правильность” позволила Довженко не только почувствовать все болевые точки современности, но и сберечь редкий многогранный, непредубежденный взгляд на вещи, людей и дела. Как каждый серьезный мыслитель и выдающийся писатель, он не боялся возражений, драматизма, внутренних конфликтов, которые иногда принимали у него форму споров с самим собой. Поясню. Значительно меньше известно, что Довженко не только воспевал Каховское море (в “Поэме о море”), но и оплакивал прекрасные плавни, запорожский луг, которые при этом погибли, заставляя своих старых женщин со слезами целовать наличники окон и стены осиротелых хат. Когда его Шиян сидит в хате и не хочет идти из нее, хотя море вот-вот подступит, — это он, Довженко, сидит там. Это у него не поднимается рука срезать старую грушу на родном подворье. Я недавно прочитал рассказ писателя Марысаева “Машутка” — про лошадь, которая много дней и ночей брела тайгою, пока все-таки не добралась до базы геологов. Рассказываю вам, а у самого — мороз по коже. Так и Довженко. Он, как никто, знал, что значит страстно любить свою землю, свой сад и огород, свою речку и хату — и душа его страдала вместе с героями. Для него тут открывалась драма двух миров, старого и нового, всемирная драма — наиярчайшая примета истории современного человечества. Если вы внимательно прочитаете его прозу, то поймете, насколько видение и осмысление деяний у Довженко глубже, драматичнее и масштабнее, нежели у некоторых нынешних скептиков и радетельных плакальщиков, которые мелко плавают. Кстати, Александр Петрович знал о сложностях, связанных с тем, что огромные территории будут залиты водой. Но знал он и другое — скоро человеку будет мало всей матери-Земли, не то, что “родной хаты”, к чему надо быть и психологически и морально готовыми. Как видим теперь, он имел предвидение, потому что хорошо понимал необратимость хода исторического развития. Не забывайте, что мышление Александра Петровича формировалось в революционную пору. Вера в безграничность возможностей человека, в то, что он сумеет приблизить к потребностям своего духа всю реальную природу (в том числе и собственную) была у всего нашего поколения такой огромной, что хотелось все на земле заменить, улучшить, мудро перестроить. Этими грандиозными, смелыми задачами была захвачена душа Довженко. Какие черты Александра Петровича выделить как главные? Поэтическое начало, проповеднический дар, талант трибуна. Если чему и удивляться у Довженко, так это неизменной открытости, с которой он высказывал свои “преждевременные” взгляды, его глубокая щедрость, ничем не застрахованное доверие к любой аудитории. Тем и велик Довженко, что свои положительные идеалы не только реализовал в искусстве, но страстно желал непосредственно влиять на жизнь. Времена изменились, и вам, может быть, нужно сделать усилие, чтобы представить душевное состояние, в котором этот человек жил постоянно. Он во все вмешивался, писал письма, стучал в двери — не боясь ни романтизма, ни идеализма, чем беспокоил “полуинтеллигентов” (его любимое определение) и возмущал чиновников. То, что он посадил сады на “Мосфильме” и Киевской киностудии, широко известно. Но мало кто знает, что он сделал собственный проект реконструкции Крещатика. Были у него проекты реконструкции Брест-Литовского проспекта, улиц и площадей Киева, предлагал немало разумных и светлых идей для оформления Каховской ГЭС, новых сел, домов культуры. Так что, как видите, был он не только художником и трибуном, но и практическим деятелем. Кстати, Александр Петрович — один из немногих режиссеров, который поехал на фронт военным корреспондентом, а потом создал свои уникальные кинодокументы о войне. Его глубоко поразила беда, которая упала на наш народ, и переживал он ее как свою собственную трагедию. Вообще, душа у Сашкá была панична. У художника душа не может быть иной. Может быть, я неточно выразился. Имею в виду душевную тревогу, даже трагизм предчувствия. Довженко трагично чувствовал и мыслил. Вообще он был человеком какой-то сосредоточенной серьезности, строгости. Отличался огромной выдержкой, не позволяя себе сорваться. Закусит только губы по своему обычаю. Смеялся редко, а уж если смеялся, то по-детски, буквально заливаясь смехом. Гневался тоже серьезно — и тогда не умел “считать паузы”, как я это называю. Тогда мог в запальчивости накинуться на тебя и наговорить много несправедливых слов. Мне уже доводилось не однажды вспоминать, как Сашко укорял меня за то, что я пою “сладкие арии” на фронте. “Там кровь проливается, гибнут люди, — говорил он, — а ты — “Скоро восток золотою ярко заблещет зарею”” Я теперь понимаю, что он не до конца понимал, что солдатам тоже нужны паузы, если воспользоваться теми же словами. Александр Петрович уж никак не был ласковым, удобным человеком, взгляд у него бывал, если нужно, злой и беспощадный. Как нужно было высоко чувствовать, целомудренно и свято относиться к женщине, чтобы отважиться раздеть актрису, как он это сделал в своей “Земле”. У Довженко были чрезвычайно высокий такт, врожденная интеллигентность и настоящее уважение к жизни, какие присущи большим художникам. Что-то такое он умел делать с людьми. Прикасался к спрятанным в каждой душе источникам поэзии, умел ее вызывать на свет божий. Бываю ли я на родине Довженко, в Соснице? Не каждый год, но часто. Езжу туда иногда с детским хором. Поем около его старой отцовской хаты. Но это необходимо не мертвому, а живому, мне самому необходимо. Если этого не делать, превратишься в туман за окном... …Чту его память. Вспоминаю его в разные моменты жизни, чаще — печальные. Он был очень активный человек, все его касалось. Даже тогда, когда он в первый момент что-то бурно не принимал, мог прислушаться к противоположному мнению. Я уже, по-моему, говорил о таком эпизоде в нашей жизни. Война... Я, приехав из Куйбышева, где был театр, живу в гостинице “Москва”. В моем номере Довженко. Его супруга — Юлия Ипполитовна Солнцева — спит на моей кровати. У нас идет бесконечная беседа. Я рассказал ему о том, что среди передач на фронт, в госпиталях должно быть мажорное звучание, например, арии из “Севильского цирюльника”. Как это мне представлялось, так я ему и говорил. Он отрицательно качал головой, не соглашаясь. Спор нагнетался, он что-то чиркал на бумаге. Когда мы насупились, надулись, как сычи, Сашкó неожиданно протягивает мне лист бумаги, на котором уже сделана раскадровка. Спорил со мной, спорил с собой, а параллельно думал, как можно передать это мажорное звучание на экране. Однажды, будучи на приеме у Сталина, он высказал идею о строительстве нового университета на Ленинских горах. Очень хотел, чтобы его мечта осуществилась. Очень остро реагировал на вопрос, который неожиданно для меня задал мне Сталин на одном из приемов,— вернусь ли я, если поеду на гастроли за рубеж. Тогда меня это ошеломило, потому что время было суровое: не так сказал, не то сказал, не тому улыбнулся... И Сашко понимал сложность моего положения. Не могу без улыбки вспоминать его рассказы о том, как он “гасил” домашние ссоры. Когда два таких бурных характера, как он и Юлия Ипполитовна, сталкивались, они вслед за тем расходились по разным комнатам. Через некоторое время Сашкó ложился на пол с зажженной папиросой и пускал дым в соседнюю комнату. На этом стороны приходили к согласию. Я уже говорил о его фильме “Поэма о море”, но не отметил там один из самых замечательных эпизодов, где противостоят два мировоззрения, два видения мира. Это — два мальчугана, один из которых видит в кургане — скифской могиле — всего лишь холм земли, а второй, глядя на него, представляет себе сражение наших предков за честь родной земли. 1981, 1984
Мария Заньковецкая Определение “выдающаяся артистка” для Марии Константиновны Заньковецкой не точно. Кто видел ее, кто имел счастье знать ее, воспринимали ее как светлый гений настоящего народного искусства. Известно, с каким волнением говорили о ней такие прославленные деятели театра, как В. Ф. Комиссаржевская и В. И. Немирович-Данченко. Они стремились подчеркнуть значение Заньковецкой как мировой величины. Немирович-Данченко назвал ее украинской Дузе... А с каким уважением, с каким признанием огромного таланта украинской артистки писали и говорили Лев Толстой, Максим Горький, Антон Чехов, Петр Чайковский и другие выдающиеся русские деятели культуры. Чайковский подарил ей цветы с лентой: “Бессмертной от смертного”. Их мысли о Заньковецкой остались блестящим свидетельством в истории искусства, свидетельством, которое сохранило для нас неумирающий след ее деятельности. Она была не только артисткою, которая очаровывала современников своим неповторимым мастерством. Ее образ живет и сегодня. Та чистота и тот пафос, какими владела М. К. Заньковецкая, стали образцом вдохновения в искусстве и школою для многих поколений. Конечно, влияние ее в первую очередь ощущалось в развитии украинской культуры. Но не надо забывать, что оно значительно шире и сказалось на всей нашей многонациональной культуре. Такие украинские артисты, как Заньковецкая, Кропивницкий, Саксаганский, Садовский, Марьяненко, Линицкая и другие, способствовали тому, что многие талантливые люди будущих поколений стали на путь развития родного театра. Они прославили свой народ и театральное искусство, свой театр, который, как известно, когда-то назывался “малороссийским”. Велика их заслуга потому, что благодаря своей причастности к народу, они помогли целым поколениям осознать свою национальную принадлежность. Из многих фактов вырисовывается ясный и необычайно привлекательный образ Заньковецкой как человека, который любил свой народ и отдал свое искусство этому народу. Разве не впечатляет то, что такой новатор театра, как Комиссаржевская, с огромным интересом относилась к творчеству украинской актрисы, хотела учиться у нее. Такой интерес к украинскому театральному деятелю можно объяснить не только гениальностью Заньковецкой, но и ее необычайным благородством, ее верным на протяжении всей жизни служением никем не признанному театру приниженного в дореволюционное время украинского народа. Разве можно, например, сравнить условия, в которых работала Комиссаржевская или Ермолова — и Заньковецкая? Артисты русского театра имели определенную обстановку для развития своего таланта. Заньковецкая также могла быть в русском театре, но она сознательно взяла на себя все тяготы, которые выпали на долю наиодареннейших украинских артистов. Она равнодушно относилась к бытовому благополучию, которое могла обеспечить себе, порвав с “малороссийским” театром, в то время не имевшим никаких, перспектив. Она верно служила народному искусству, величие которого предвидела внутренним чувством гениального человека. Я имею в виду не только те права, которыми пользовались русские театры, но и ту великую, веками создаваемую драматургию, без которой не мог бы существовать театр. В то время, когда Заньковецкая начала свою деятельность в театре, он не имел еще такой драматургии, но своим служением ему она вызвала к жизни новые драматические произведения, новые имена украинских драматургов. Интересно отметить, например, что и А. П. Чехов через всю жизнь пронес намерение написать пьесу для Заньковецкой... М. К. Заньковецкая и такие деятели, как она, показали будущим поколениям путь, каким должны идти настоящие художники — путь к народу. Следует вспомнить, что Федор Шаляпин, Максим Горький, Леонид Собинов когда-то тоже пели в украинском театре. |


