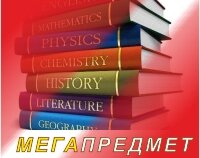 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ Сила воли ведет к действию, а позитивные действия формируют позитивное отношение Как определить диапазон голоса - ваш вокал Игровые автоматы с быстрым выводом Как самому избавиться от обидчивости Противоречивые взгляды на качества, присущие мужчинам Вкуснейший "Салат из свеклы с чесноком" Натюрморт и его изобразительные возможности Применение, как принимать мумие? Мумие для волос, лица, при переломах, при кровотечении и т.д. Как научиться брать на себя ответственность Зачем нужны границы в отношениях с детьми? Световозвращающие элементы на детской одежде Как победить свой возраст? Восемь уникальных способов, которые помогут достичь долголетия Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ) Глава 3. Завет мужчины с женщиной Оси и плоскости тела человека - Тело человека состоит из определенных топографических частей и участков, в которых расположены органы, мышцы, сосуды, нервы и т.д.
| Духовность формируется с детства 9 страница
Я всегда с большим уважением и любовью отношусь к тем, кто проложил для нас, нового поколения, пути служения народу. В то время, когда мне выпало счастье видеть Заньковецкую на сцене, у меня и мысли не было, что сам буду работать в искусстве. О моем юношеском, может быть, даже детском восприятии ее игры на сцене говорить и трудно и в то же время легко. Трудно потому, что искусство артистов, к огромному сожалению, нельзя повторить; роль артистки в спектакле нельзя “перечитать”, как мы перечитываем излюбленную главу романа, достоинства которого сохраняются навеки. А легко говорить о творчестве Заньковецкой потому, что в мою юную душу навсегда запало ощущение радости и печали народной, которые несла на сцене гениальная артистка. М. К. Заньковецкая горячо любила русскую культуру, а представители русской культуры платили ей такой же любовью. После одного спектакля, в котором участвовала Заньковецкая, К. С. Станиславский воскликнул: — Это же сама правда! Известно, что Заньковецкая была активным общественным деятелем, выступала на I съезде работников сцены в тогдашней царской России. В своем выступлении гениальная артистка горячо отстаивала право украинского народного театра на существование и творчество. Мария Константиновна учила мыслить, чувствовать настоящее мастерство. Значительно раньше, чем я познакомился с ее высказываниями об искусстве, мне довелось почувствовать главное в ее поведении на сцене: глубокую правду, которой была насыщена каждая ее роль. Хотелось бы, чтобы Заньковецкая, которая поражала своей чистотой и благородством в изображении души народа, стала бы примером для некоторых современных актеров, которые нередко вульгаризируют искусство. Надо ли говорить, что тот священный принцип, которого придерживалась Заньковецкая в своем творчестве, навсегда стал и моим кредо? Когда я видел ее на сцене, она учила и меня, хотя я и не догадывался, что наука, которую я постигал в то время скорее не разумом, а горячим юношеским сердцем, может в будущем помочь мне в работе в театре. С большим захватывающим волнением я смотрел спектакли, в которых участвовала Заньковецкая — “Две семьи”, “Лымеривна”, “Безталанна”. В пьесе “Паливода” она исполняла маленькую роль и выходила на сцену лишь в четвертом акте. Но каким блестящим был этот выход артистки, которая обладала не только большим трагедийным талантом, но и юмором. В жизни она тоже была с юмором и смешливой, но в то же время очень сочувствующей людям. Когда Горький и Шаляпин давали спектакли в пользу бедных студентов, Заньковецкая со своими товарищами горячо поддерживала это начинание. С каким волнением следили за ней зрители в то время, когда в спектакле “Две семьи” она молчала на сцене! Их ошеломляло известие о том, что случилось с любимой героиней (Зинька, как известно, повесилась), образ которой блестяще рисовала великая артистка. Правда в показе горя и радости, правда в раскрытии души человеческой — вот что волновало и захватывало зрителей, вот что учило театральную молодежь, которая была свидетелем прекрасной деятельности Заньковецкой в старом украинском театре. Вот почему и я с огромным уважением склоняю голову перед светлой памятью гениальной, действительно народной артистки, которая оставила неизгладимый след в нашем театральном искусстве — многонациональном и неохватном, как просторы нашей чудесной родины. 1950 Александр Иванов-Крамской Александр Михайлович Иванов-Крамской музыкант, с которым связывала нас многолетняя творческая дружба. А. М. Иванова-Крамского помню еще до войны, когда он дирижировал оркестром клуба НКВД, хормейстером был А. В. Свешников, супруга Александра Михайловича — Софья Георгиевна Иванова-Крамская — артисткой балета. В этом же коллективе работал и будущий кинорежиссер С. Юткевич. С Александром Михайловичем, гитаристом, мы подготовили и осуществили большой концертный репертуар — русские романсы, русские и украинские народные песни. Он — большой мастер! Свою любовь к гитаре он передал дочери Наталии Александровне, которая концертировала как гитаристка и вела класс гитары в Московской консерватории. Много раз были с Александром Михайловичем в поездках — и на празднике Глинки в Смоленске, и на Пушкинских праздниках во Пскове, и на Украине, и в Горьком, Владимире... Но в нашем долгом творческом содружестве бывали моменты, которые оставили во мне горечь. Так я до сих пор не могу объяснить мотив, по которому он отказался ехать со мной в Свердловск на 50-летие оперного театра. Но время примиряет. Умер Александр Михайлович, как говорят, в одночасье — по дороге на репетицию. Это случилось в городе Минске. Помню его скромные похороны в Москве. Пришлось мне выступать и на суде, защищая интересы семьи. Сделал в искусстве многое, очень многое. Скрипач, дирижер, певец, гитарист, композитор. А сколько творческих планов, над которыми он думал, мечтал, но далеко не все осуществил, не все отдал тому обществу, для которого трудился, в котором жил! Это самое главное, о чем мы говорим, когда расстаемся с человеком: что он сотворил, чтобы быть достойным памяти людей. Музыкальный вклад А. М. Иванова-Крамского в нашу культуру оценивается объемом материала, который он исполнял и сам сочинял. Мастерство виртуоза-гитариста легко измерить — записи его звучат и сегодня. Еще совсем недавно он выступал с творческим отчетом на московских заводах, а 11 апреля, в Минске, идя на репетицию, мгновенно расстался с жизнью. Живущие ищут оправдания закономерности, печальной закономерности. А надо видеть то, что было главным и лучшим у такого замечательного художника, каким был Александр Михайлович. Это знания, вкус и необычайное трудолюбие. В искусстве или все очень просто, или очень сложно. В самом деле, оставить скрипку и перейти на шестиструнную гитару, как поступил А. М. Иванов-Крамской,— это подвижничество, это вера в себя, в инструмент. 1973
Леонид Коган Удивление. Чудо. Демонстрируется четырехсерийный советско-болгарский фильм, где Леонид Коган в знак великого уважения и признания удостоен чести играть на скрипке самого Паганини, сделанной известным итальянским мастером Гварнери дель Джезу. Печать снимается в присутствии мэра города Генуи и полицейских, которые вот уже на протяжении ста пятидесяти лет охраняют скрипку Паганини. С огромной отдачей души и сердца играл Леонид Коган. Его искусство удивляло весь музыкальный мир, оно приносило радость миллионам слушателей всех стран. Честь и хвала замечательному музыканту, профессору А. И. Ямпольскому, учившему его и раскрывшему те качества музыканта, которые принесли Когану всемирную славу. И ему мы обязаны рождением нового скрипача, олицетворившего нашу эпоху, — Леонида Когана. Я много слышал игру Когана, старался не пропускать его концерты. Память бережно хранит исполнение им Чаконы Баха, Концерта Глазунова, сочинений Паганини... Недавно прозвучала ранняя запись фантазии Бизе — Сарасате “Кармен”, которую Коган играл с оркестром под управлением В. Небольсина. А исполнение им другой транскрипции “Кармен” в обработке Ваксмана — это нужно слушать! Сколько там чудес, блеска, виртуозности, красивого звучания! Замечательные скрипачи прошлого века неоднократно повторяли, что скрипач должен играть, как поет певец, а певец должен петь голосом скрипки. Этой основой блистательно владел Леонид Коган. В игре скрипача всегда ощущалась твердость, ясность звучания, слышались когда радость, а когда и печаль. Оттого звучание его скрипки вызывало глубокое раздумье, улыбку и слезы... Каким же надо было обладать даром выражения человеческих чувств, эмоций, чаяний, чтобы приковывать к себе слушателей разных вкусов и направлений, используя в то же время свое, вероятно, во многом врожденное, феерическое скрипичное мастерство. Он всю жизнь был в крайнем напряжении — этого требовали высокая ответственность художника, постоянная самодисциплина. Леонид Коган — значит, скрипка. Педагог он был отменный, стремившийся привить ученикам творческое начало. Мне пришлось заниматься пением с его талантливой ученицей из Японии Ёкко Сато. Я видел итоги работы Когана. Я уверен, что он брал скрипку и играл перед учеником то, что повторял с детства тысячу раз, и, познав звучащую мудрость, передавал ее своим ученикам. Коган любил музыку и всю жизнь отдал ей. Любовь царила и в его семье. Не могу с восхищением не сказать несколько слов о его жене — Елизавете Гилельс. Когда были концерты, в которых принимали участие Леонид Коган, его сын и дочь, в зале ее не было. Она находилась в артистической, скрывая свое волнение от слушателей и близких ей людей. Это естественно, что мать и жена, сама музыкант, так трепетно, так любовно относилась к ним. Мы знали Елизавету Гилельс как известную скрипачку. Слава, тщеславие — сильные чувства, и не все могут бороться с ними. Любовь — это жертвенность. У Елизаветы явилось святое чувство — отречься от себя во имя мужа и детей... Вероятно, появятся книги о Леониде Когане, будут различные мнения. И это хорошо. Важно, что не будет равнодушия. Для меня его могучий темперамент, пламенное звучание скрипки — одно из ярких явлений. 1987
Глеб Кржижановский Что для меня Глеб Максимилианович Кржижановский? Однозначно я не могу ответить. Вера Николаевна Фигнер как-то меня спросила: “Почему Вы так ко мне относитесь?”. Я ей тотчас же ответил: “Потому что у Вас было что терять ради нас, и Вы теряли. Не только осязаемые, меркантильные какие-то удобства жизни, а прежде всего свою жизнь”. Она, как известно, просидела 20 лет в Шлиссельбургской крепости, отказалась от ходатайства о смягчении ее участи, которое ей предлагал ее брат — знаменитый певец Н. Н. Фигнер. Она считала для себя единственной возможностью — разделить участь товарищей. Глеб Максимилианович, как история это подтверждает, также не раз рисковал своей жизнью. Он был старейший человек в Коммунистической партии... Очень волнующий был вечер — празднование 80-летия Кржижановского. Мы хотели спеть на этом вечере “Варшавянку”, написанную Г. М. Кржижановским, но некое лицо из президиума очень вежливо сказало, что чествуют его сегодня как ученого. Как будто бы “ученый” отделим от гражданского облика человека! Да, факт такой был. Мне предложили выступить со словом. Я выполнил эту почетную миссию. Но сначала пел. Несколько романсов. Пел “Я помню чудное мгновенье”. Отдачу зрительного зала я чувствовал. Глеб Максимилианович сидел на сцене в глубоком кресле в академической шапочке — и облик его перекликался с пушкинской эпохой. И смысл этого стихотворения был близок ему — он любил, и его любили. Через некоторое время после юбилейного вечера я получил от Глеба Максимилиановича письмо. И хоть я испытываю некоторое чувство неловкости от того, что говорю о нем сам, мне очень дороги эти строки, и они выразительно рисуют облик этого замечательного человека. “Дорогой и милый Иван Семенович! Я задержался этим письмецом, потому что поджидал изготовления такого портрета, который бы не давал моего изображения в “преклонном состоянии”. Как только его изготовили, посылаю Вам... с приложением “Элегии”, Вам посвященной и долженствующей — хоть несколько — оправдать мои дерзания. А хочется мне попросту сказать нижеследующее: я рад, что встретился с Вами. Вы помещаетесь в одном из самых теплых уголков моей души. Желаю Вам всего самого наилучшего из того, что Вы сами можете себе пожелать”. “Элегию” Глеб Максимилианович написал и прислал с такой очень теплой и сердечной надписью, которой я радуюсь и, не скрою, горжусь. Я эти стихи показывал нашим композиторам. И представьте себе, они уклонились. А вот Катя Кожевникова, совершенно юный тогда музыкант, взяла их и положила на музыку. Что ей помогло — то ли юность, то ли то, что она почувствовала эти стихи? Но она принесла ноты, с ее разрешения внесли некоторые коррективы, закономерные для исполнителя, сделали оркестровку, “Элегия” была исполнена в Большом зале консерватории. “Вспомнишь ли ты нас, грядущий исполин?” Это трогательные слова. И тогда, когда исполняли “Элегию” с оркестром и хором, она волновала всех. После моего пиано вдруг орган, хор, оркестр — впечатление такое, как будто бы воскресли голоса целых поколений людей, которые были, которые боролись за нас, которые украшали жизнь. Они ушли, но осталось от них главное. Вот, пожалуй, и все. Заканчиваю и с грустью, и с какой-то душевной успокоенностью, и даже с радостью за то, что у меня в жизни было так много встреч с такими людьми, как Глеб Максимилианович. И если было подчас в жизни очень трудно, то почему-то я думал: “А ведь есть же в жизни люди, которые могут служить нам примером, опорой, именно моральной опорой”.
Виктор Кубацкий За стеной моей комнаты, в соседней квартире много лет жил знаменитый виолончелист, дирижер Большого театра Виктор Львович Кубацкий. Он музыкант. В 16 лет он уже сидел на первом пульте в оркестре. Потом — в 30-е годы — был дирижером. Я много раз пел с ним в Большом театре в опере “Евгений Онегин”. Дирижировал он и таким спектаклем, как “Псковитянка”. Он выступал с Собиновым, Шаляпиным, которому он аккомпанировал на виолончели — “Уймитесь, волнения страсти” (“Сомнение” Глинки). И мы часто выступали в таком составе: Антонина Васильевна Нежданова, Николай Семенович Голованов, Виктор Львович Кубацкий и я. Исполняли “Не искушай” Глинки: Нежданова — сопрано, я — тенор. Голованов — рояль, Кубацкий — виолончель. Говоря о Викторе Львовиче Кубацком, нельзя не остановиться на его деятельности по сохранению уникальных музыкальных инструментов. Кубацкий был на это уполномочен, что подтверждал мандат за подписью В. И. Ленина и письмо за подписью Ф. Э. Дзержинского и А. В. Луначарского с просьбой всячески содействовать в выполнении порученной ему миссии. И он поехал по всей России собирать музыкальные инструменты, которые в первые годы Советской власти могли быть невозвратно утрачены: они могли быть вывезены за пределы нашей Родины, просто сломаны и т. д. Виктор Львович старательно собирал драгоценные инструменты — скрипки Страдивари, Амати, альты, виолы д'амур, виолончели. Я помню, как мы выступали с блистательным альтистом Вадимом Борисовским, он играл на виоле д'амур из Государственной коллекции. В создании этой коллекции уникальных инструментов большая заслуга Виктора Львовича Кубацкого. 1983 Владимир Лосский Владимир Аполлонович Лосский и сегодня живет в искусстве. Плодотворный труд режиссера, создавшего в течение полувека в одном только Большом театре множество постановок и стойко выдержавшего бурю и натиск всяческих “измов”, полностью сохранил свое значение в наши дни. Многое из того, что сотворено и выверено его талантом и опытом, с благодарностью возьмет грядущее поколение артистов, режиссеров, дирижеров... И если люди оказывают почести, знаки внимания тому или другому человеку, принесшему пользу обществу, и после его смерти, то делается это для живущих, для воспитания правды в искусстве. Мне думается, мы мало согревали Владимира Аполлоновича человеческим теплом при его жизни. Если бы он испытывал еще более горячее признание и благодарную любовь от тех, с кем шел путем правды,— необычайной, трудной, а именно — правды музыкальной, оперной, то смерть Владимира Аполлоновича не принесла бы столько горечи и обиды его ученикам и последователям. Последние часы жизни Владимира Аполлоновича в больнице... “Вы знаете, кто он?” — обращаюсь я к профессору.— “Вас еще не было на свете,— отвечает он,— а я уже знал, кто такой Лосский. В Нижнем Новгороде на ярмарке шли спектакли. Участвовали Шаляпин, Фигнер, Лосский и я. Как Вы думаете,кем я был в то время? Артистом миманса или, как тогда называлось, просто статистом. Но было это в театре, в котором Лосский был певцом. И как уважал и ценил его Шаляпин! Сейчас мы делаем все, чтобы отвоевать его для общества, для жизни, для людей!”. Разговор о прошедшем в искусстве может вызвать порой досаду. Трудно, невозможно словами передать все то, что мы слышали и видели,— такие попытки вызывают иногда в слушателях или читателях чувство раздражения. Почему? Потому что произведение искусства хочется слышать, видеть, чувствовать, воспринимать самому, по-своему. Невозможно с предельной ясностью рассказать словами о з в у ч а н и и того или иного голоса, о мастерстве ведения диалога, о режиссерском почерке. Видеть, слышать надо! Ну, а если это все же невозможно, то будем говорить, чтобы хотя бы эскизно передать то, что б ы л о, и подумать о том, что будет в искусстве. Могучую силу В. А. Лосского как мастера, как высокоинтеллектуального и мыслящего человека особенно ощущали те, кто с ним работал, кому он давал “нить”, “зерно” — с тем, чтобы каждый осмыслил все это сам в своей собственной “лаборатории”. Деятельность Владимира Алоллоновича как руководителя, режиссера, постановщика — это образец того, как надо “приводить к одному знаменателю”, к единому толкованию творчество певца, художника, дирижера, режиссера. Стиль его работы был, с моей точки зрения, самым верным, самым практичным как по содержанию, так и по срокам, а потому и самым эффективным. Его рабочие клавиры являют образцы честного, неутомимого изыскательского труда художника. Они могут найти применение при постановке опер в любом театре и принести большую пользу начинающим режиссерам. Авторитет Лосского был велик, значим для всех: он придавал нам творческую смелость. Каждый мог приходить и приходил к Владимиру Аполлоновичу со своими поисками, сомнениями и желаниями, не боясь прочесть в его глазах: “не дискредитируйте меня, уважайте мои требования!” Ведь чем больше художник, тем реже слышишь от него подобные слова... В. А. Лосский почти никогда не считался формально “главным”*. Но работники театра, зрители всегда ощущали е г о почерк, е г о мысль, е г о высокий профессионализм. Самое важное, что в опере у него всегда все было п о-о п е р н о м у. Оттого он и был на деле г л а в н ы м, был фактически художественным руководителем в театре. Оттого мы и теперь еще сильнее ощущаем значимость Лосского в искусстве, еще острее чувствуем его уход из жизни.
# * Он был заместителем директора по художественной части при директорах А. А. Бурдукове и Е. К. Малиновской (примеч. автора).
Он работал дома со спичечными коробками,— и они превращались потом в грандиозные построения на сцене (“Борис Годунов”, “Аида”, “Лоэнгрин”, “Фауст”). У себя дома на маленьком письменном столе он создавал целые спектакли из этих спичечных коробок. При помощи раскрашенных коробок и крохотных фигур были точно распланированы заранее отдельные сцены, были расставлены по местам участники спектакля. Вы смотрели на все это и с ясностью ощущали уже на сцене многочисленную массу действующих лиц будущего спектакля. Тут и духовой оркестр, и хор, и солисты, и артисты мимического ансамбля. И все это строго выверено: на каком такте музыки одни, к примеру, опускаются вниз, другие — поднимаются вверх. Каким музыкантом он был! И какую эта ювелирная работа давала экономию времени и средств театру! Экспериментов на сцене не было, они были в его творческом кабинете. Мизансцены многих спектаклей, которые давали возможность правильно использовать звучание хора и были, вместе с тем, логически, глубоко оправданными, найдены В. А. Лосским именно в его “лаборатории”. А кто не помнит, что такой спектакль, как “Аида”, шел с блеском уже через две недели после первой репетиции! Дисциплина труда у него была поразительная и глубоко поучительная. Сколько мы знаем случаев, когда десятки, сотни тысяч рублей тратились на постановки, которые не выдерживали и первого испытания сценой — из-за небрежности постановщиков! Все, кто работал с Владимиром Аполлоновичем, знали, что, несмотря на внешнюю сдержанность, даже подчас сухость, у этого человека — доброе сердце и беспредельная благожелательность к людям, к тем, кто трудится, кто способен творить в таком сложнейшем искусстве, каким является оперный театр. Он был искренен, правдив, и не удивительно, что его влияние сильно распространилось в оперных театрах, где он работал. Можно ли словами передать, как работал Владимир Аполлонович? Разве можно передать и рассказать словами, как отец или мать учат ребенка петь песни? Разве можно научить любить природу? Этому нельзя научить,— можно только рассказать, как это ощущает, как воспринимает человек. Казалось, что он словно не видит вас и не делает никаких замечаний,— только подойдет в конце репетиции и произнесет свое значительное: “М... да...”. Долго стоя с вами рядом и о чем-то про себя думая, он мог сказать потом, обращаясь к присутствующим участникам спектакля: “Давайте следующую картину!” И только когда-то позже, на каких-то последующих репетициях или с глазу на глаз (даже не вспомнишь, какими именно словами — он был очень скуп на слова, или даже просто какой-то улыбкой, необыкновенно теплой, хотя и сдержанной) он будто говорил свое мнение, подтверждал, высказывал свое творческое одобрение. Как много значила для артистов — особенно молодежи — такая манера обращения! В том-то и заключалась его сила настоящего художника, режиссера, наставника, что не было какого-то четкого “метода” или лекций; он не имел звания главного режиссера, но молодой артист чувствовал в нем ту внутреннюю, творческую лабораторию, которую не мог сразу обнаружить и осознать в самом себе... При этом большом человеке и артисте каждый чувствовал себя необыкновенно смелым. Не было опасений, что творческие вопросы, требования, сомнения могут вызвать какую-либо неприязнь, обиду с его стороны. В. А. Лосский не только для нас, тогда начинающих артистов, а и для всей труппы Большого театра был тогда уже неопровергаемым авторитетом, тем не менее все возражения он охотно выслушивал и либо принимал их, либо старался переубедить актера, но своего мнения не навязывал никогда. Главной у Владимира Аполлоновича была способность внушить веру в себя. Не одно поколение певцов, дирижеров, художников было ему обязано своим становлением в искусстве. У всех была вера в этого художника, все были убеждены, что его советы — плод глубоких знаний, все его пожелания имеют целью помочь искренно и дружески. Многие режиссеры перед новой постановкой несли ему на доброжелательную критику свои замыслы, свои работы. Влияние В. А. Лосского на наших художников, — таких, как Федоровский, Кольбе, на дирижеров было также огромно. Вспоминая о той смелости, которую я испытывал в работе с Владимиром Аполлоновичем, я должен признаться, что теперь, напротив, работая с режиссером, чувствую робость: как бы не ущемить, не огорчить его. Мой первый сезон в Большом театре... Я был занят в нескольких спектаклях, которые ставил не Владимир Аполлонович. Я не раз обращался к нему за помощью. Напевая и рассказывая без сопровождения музыки, демонстрировал я ему места, вызывавшие у меня неуверенность. После его советов я действовал уже решительно и смело, даже если это противоречило мнению, желанию автора и постановщика. Так было с “Любовью к трем апельсинам”: вначале против моей интерпретации был даже композитор. На спектакле же оправдалась точка зрения, поддержанная В. А. Лосским. Так было позже, когда Владимир Аполлонович работал в Ленинграде. Я из Москвы на день поехал туда, рассказывал и показывал задуманную мной постановку “Вертера”... Я всецело обязан ему утверждением образа Лоэнгрина, хотя эту партию я уже пел в Свердловске, а также ряда моих ролей в других спектаклях, режиссером которых он не был. Владимир Аполлонович помнил слова Белинского о том, что каждый спектакль должен быть творением: этой мысли он подчинял все свое искусство и никогда не переставал интересоваться после премьеры не только своими постановками, но и чужими. Была как-то возобновлена опера “Риголетто”. Я пел Герцога — бледное лицо с опущенными веками. “Та иль эта — я не разбираю”, — поет Герцог. Владимир Аполлонович сидит в ложе. Хоть это и не его спектакль, он, как всегда, — с биноклем. Необычайно взволнованно я воспринимал после репетиции все, сказанное им. “Я мечтал, — говорил он, — увидеть именно такого Герцога, — так все и вышло. Задумано очень хорошо, но до конца Вы не удержались в своей “маске”. В. А. Лосский посоветовал мне всю кажущуюся “горячность” дать как бы под маской, то есть в усвоенной и привычной Герцогу светской манере. Вся партия Герцога давала, показалось тогда нам, полное подтверждение этому. “Риголетто”, повторяю, не был спектаклем В. А. Лосского, но это не помешало ему беседовать со мной час, два, а через несколько дней опять вернуться к той же теме. “Вы знаете, — говорил он, — я еще долго думал о том, каким должен быть Герцог”. Высказывания его звучали скорее вопросом, чем “диктатом”... И все же возникло “но”, над которым задумался и сам Владимир Аполлонович. В третьем акте Герцог поет: “Вижу голубку милую...”. И музыка, и текст — русский и итальянский — говорят о подлинной взволнованности, об искреннем увлечении его Джильдой. Значит, нарушается вся концепция “маски”. Герцог любит в каждом акте другую: графиню Чепрано, Джильду, Маддалену. В конце концов, пришлось нам обоим согласиться с установившейся традицией: показывать легкомысленную любовь во всех ее оттенках и разновидностях... Вот, пожалуй, одна из характернейших черт творческого облика Лосского — уменье еще и еще творчески “передумывать” давно, казалось бы, решенное... Наиболее ярким для меня воспоминанием является работа с Лосским над образом Юродивого. В “Борисе Годунове” я хотел сначала петь Шуйского и даже репетировал его. Партия была уже “петая” мною. Но Владимир Аполлонович попросил подумать о Юродивом. Хоть я и побывал в Третьяковской галерее и перелистал дома какие-то книжки, мне кажется, что я ничего тогда не надумал. Я глубоко уверен в том, что именно В. А. Лосский дал мне нужную “нить”, разбудил во мне мысль, необходимую для формирования образа Юродивого. Часто я чувствую скорбь острее, чем что-либо другое, чем какие-либо другие явления в жизни и в душе человека. Владимир Аполлонович, вероятно, это понимал. Но “ключ” к решению образа был найден не совсем обычным путем. Помню, однажды я гримировался к одной из генеральных репетиций. Сначала сделал дугообразные брови, потом, наоборот, собрал сросшиеся брови у переносья, что дало Юродивому вид обиженного и удивленного человека. Тогда ко мне подошел Владимир Аполлонович и сам прочертил на моем лице моими же красками всего один штрих,— получились высокие брови, придавшие Юродивому скорбное выражение. Это сразу дало какой-то толчок к просветлению всего облика Юродивого в моем сознании артиста. Так на практике решился спор: можно ли от внешнего идти к внутреннему? Кстати, в последние годы мы часто беседовали об этом, и Владимир Аполлонович советовал решать эту проблему в каждом отдельном случае по-разному... Неверно представлять себе В. А. Лосского только как мастера монументальных спектаклей в стенах Большого театра или других наших крупных оперных театров. Одной из его работ в предвоенные годы была опера “Моцарт и Сальери”. Шла она в Большом зале консерватории в концертном исполнении Государственного ансамбля оперы, но с насыщенными и глубоко оправданными, детально продуманными мизансценами. Эта постановка отражала вечное стремление Лосского к движению вперед, вечные поиски все более и более совершенной и выразительной формы спектакля. Этот замечательный мастер умел научить артиста и тому, как обращаться с накопленным им для роли материалом. Помню, как однажды я принес Владимиру Аполлоновичу на репетицию историческую справку о Шуйском, партию которого хотел петь, и как он мне на это сказал: “Театр — это не музей”. И сразу отпали все мои ухищрения и домыслы о том, что Шуйский был с бельмом, что у него вечно слезящиеся глаза, что ему 42 года, что он царствовал после Дмитрия столько-то и столько-то лет... И наоборот, невнимание артиста к “мелочам” в обрисовке того или иного образа вызывало всегда деликатный отпор со стороны Владимира Аполлоновича. Вспоминаю такой случай. В третьем акте “Риголетто” в конце арии Герцога есть каденция, где звучит ре-бемоль третьей октавы. Герцог, развалясь в мантии на обширном и уютном диване, пел всю арию. В этой же позе я спел и каденцию с нотой ре. И вот через несколько дней подходит ко мне на репетиции Владимир Аполлонович и тихо и мудро, как царь Берендей, говорит: “Вы знаете, о том, что это была нота ре-бемоль, знают во всем театре трое-пятеро человек? А надо было публике дать почувствовать, чтобы и она увидела и оценила, что это такое”. Понять это нужно было так: в отдельных кульминационных местах монологов, арий — необходимо добиваться завершения формы, и надо было подчеркнуть этот момент в опере — подобно тому, как это делалось ранее в классических драматических спектаклях. “Когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и талант”, — говорил Белинский. Этого порока у В. А. Лосского не было. Владимир Аполлонович был подлинным патриотом, вдохновенным сыном своего отечества, беспартийным коммунистом. Гримируясь Мефистофелем, Санчо Пансой, Бартоло, Калинником (“Майская ночь”), Дубровским-стариком, Мельником в “Русалке”, Фарлафом, Цунигою (“Кармен”), подчеркивая все разнообразие внешнего облика и внутренней интерпретации образов, В. А. Лосский всегда говорил об одном: он пел и воспевал добро, красоту жизни, красоту человека. Он изображал отрицательных персонажей для того, чтобы подчеркнуть положительное, рисовал зло с тем, чтобы научить добру. “Театр — не есть страна реального, — говорил В. Гюго. — В нем — картонные деревья, полотняные дворцы, тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, румяна на щеках, солнце, выходящее из кулис. Театр в то же время есть страна настоящего: на сцене есть человеческое сердце, за кулисами — человеческое сердце, в зрительном зале — человеческое сердце”. |


